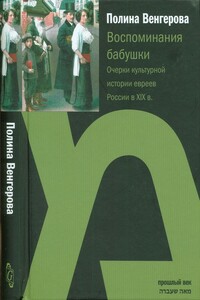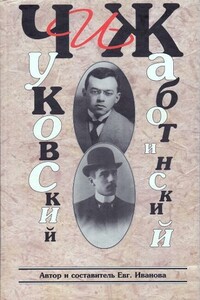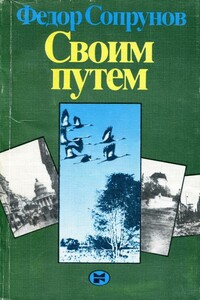Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника | страница 51
И, докурив трубку, стал выколачивать ее и вновь набивать янтарным табаком. Потом продолжал:
— К вам одна просьба: написать обо мне книжку, чтобы ее читали, как интересный рассказ или роман.
Сдвинув брови, он, молча пыхтя дымком, внимательно разглядывал меня.
— Пойдемте, месье Курганный, к столу, — сказал он. — Вы любите устрицы и старое, выдержанное красное вино? — спросил он.
— Люблю.
— Сядем за стол.
Сели.
Он налил мне и себе вина. Потом поднял бокал и весело, торжественно сказал:
— Я пью за дружбу между художником и критиком. Без этой дружбы искусство развивалось бы очень медленно. Вы согласны со мной? — спросил он меня.
— Не совсем, — ответил я. — Вы, месье Альтман, роль и значение критика слишком преувеличиваете.
Потом, допив бокал и улыбаясь, я добавил:
— Не следует думать, что без утреннего пения петуха солнце не взойдет.
Альтман рассмеялся.
— Вы в Париже новый художник, — продолжал он, — и меня мало знали. Кто я? Какой школы живописец? Реалист или формалист? Какого стиля я придерживаюсь? Ничего не знали, но теперь, после знакомства с моими работами, вы, конечно, будете меня знать.
И, помолчав, четко и медленно добавил:
— Я импрессионист. Ученик Моне, Писсаро, Сислея. Они мне дали знания, технику, методы. И любовь, и искренность.
Он увлеченно рассказывал о своем творческом пути и ранних увлечениях, а я делал вид, что внимательно слушаю его, благодушно улыбался и изредка кивал головой.
В это время вспоминал, что о нем рассказывал Федер.
…Альтман — несомненно, талантливый художник, но ему не хватает чувства современности. То, что он делает, принадлежит не сегодняшнему, а позавчерашнему дню. В его живописи есть что-то старомодное. Трудно сказать, в чем оно. Но оно чувствуется. Может быть, в его приукрашенном и приутюженном импрессионизме. Ну, что еще тебе о нем сказать? С нуждой не дружит. Бедных не уважает…
— Пейте, месье Курганный, — слышу я ласковый голос Альтмана.
Я решил ответить дружеским тостом:
— Пью, — сказал я, — за ваше удивительное трудолюбие, — и, подумав, добавил, — и за то, что всю жизнь вы отдали живописи.
Он был доволен и тронут моим тостом.
Лицо его выражало желание сказать мне что-нибудь приятное, и он любезно сказал:
— Заходите, когда вам захочется.
Так началась моя литературная жизнь — отхожий промысел.
Скульптор Синаев-Бернштейн
1912 год. Дождавшись конца сентября, я надел вычищенное бензином летнее пальто, широкополую серую итальянскую шляпу и отправился в гости к моему меценату и учителю жизни, известному скульптору Синаеву Бернштейну.