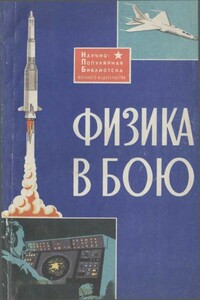Тайна невидимых шедевров | страница 73
— Да вот же она! Лежит на ватмане...
— Все равно ничего не видать!
— Отвечу вам словами Левши: «Эдак ничего и невозможно увидеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее». Берите лупу.
Сквозь сильную лупу удалось разглядеть серенькую блестящую «сориночку». Александр Матвеевич прикоснулся к ней кончиком длинного волоса, и сориночка вдруг ожила и подпрыгнула.
Блоха? Неужто Сысолятин рискнул повторить эксперимент тульского кузнеца Левши? Вот именно! Он подковал блоху, сделанную из алюминия. Величиной она была не более половины макового зерна. «В пузичке махонькая пружинка», и ключик-невидимка, и подковки с гвоздочками... Словом, как и у блохи лесковского Левши. Даже клеймо мастера проставлено на головках гвоздей, которыми подковки к лапкам приколочены...
Коллеги Александра Матвеевича — опытные инженеры-конструкторы и технологи — только руками развели от удивления.
— Александр Матвеевич, — сказал один из них. — Для меня как для конструктора ваше изделие чистый нонсенс. Объясните, пожалуйста, какими допусками, посадками и нормалями вы пользовались при создании этой штуковины?
— Какие тут могут быть допуски или ГОСТы, — ответил Сысолятин. — Ведь самая крупная деталь — корпус — имеет длину всего 0,3 миллиметра. Но вы подали мне мысль, спасибо. Стоит поломать голову над созданием каких-то нормалей для подобных конструкций.
— Ну ладно, конструкция! — вступил в разговор технолог. — Что лежит перед нами на столе, мы, хотя и с трудом, увидели. Налицо алюминиевая самодвижущаяся блошка. Но меня как технолога интересует другой вопрос: как? Как вы умудрились это сделать? Ведь толщина вашего указательного пальца на десятки порядков больше толщины самой крупной из деталей. Сделать такое вручную... просто непостижимо!
— Честно говоря, не берусь описать способы и последовательность операций изготовления. Ну, микроскоп, конечно, бинокулярный. Инструменты сделал сам. Из чего? Беру швейную иголку потоньше, расплющиваю кончик, затачиваю, вот и готов скальпель. Сверла? Из тончайшей стальной струны. Осколочек синтетического алмаза, заточенный и доведенный до предельной остроты, — отличный резец. Приемы работы? Не могу объяснить. Иной раз глаза боятся, а руки делают... Чтобы наловчиться, придумал такую тренировку: плотно завязываю глаза и стараюсь с первого раза вдеть в ушко иглы нитку. Когда работаю, мозг, сердце, нервы, зрение — все устремлено к пальцам рук, в них сконцентрировано в эти минуты все мое существо. Удары сердца, вздохи, мигание век приноравливаю к движению инструмента. Первое время все валилось из рук, но потом приобрел автоматичность движений и приемов. За этой автоматичностью стоит упорный труд. Еще скажу: когда делаю что-нибудь, то прикасаюсь резцом к детали только в паузах между ударами сердца. Эта пауза, примерно секунда, достаточна для того, чтобы выполнить ту или иную операцию. А когда накопил опыта, решил проверить практически, не выдумал ли Лесков свой сказ про Левшу? Оказывается, не выдумал, сделать такое можно, и не я один подковал блоху, но и другие мастера, например Михаил Григорьевич Маслюк, Николай Сергеевич Сядристый, Николай Иванович Доцковский... В общем, любовь к делу, очень много терпения, совсем немного специальной техники — вот и весь секрет...