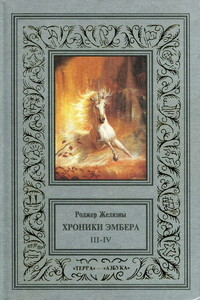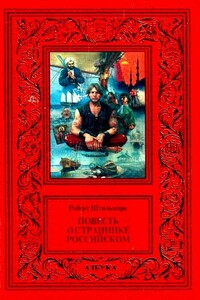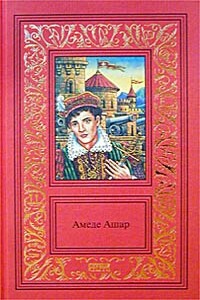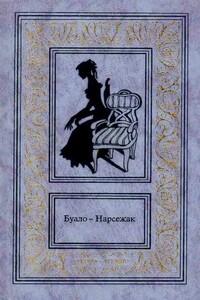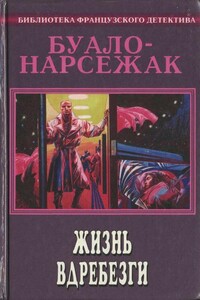Буало-Нарсежак. Том 3. Та, которой не стало. Волчицы. Куклы. | страница 46
Да, муха, которая сидела на потолке… А большое темное пятно оказалось буфетом. Все начинается сызнова в тишине и в холоде. Я ощупываю кафельные плитки на полу. Я весь заледенел. Я лежу на полу. Я — Равинель. А на столе лежит письмо.
Главное — не стараться ничего понять. Не задавать себе вопросов. Как можно дольше оставаться в этом состоянии какого-то безнадежного безразличия. Это сложно. Даже мучительно. Но не нужно ни о чем думать. Нужно попытаться обрести контроль за своими мышцами. Итак, тело, кажется, начинает повиноваться. Если есть желание, можно поднять руку. Пальцы сгибаются. Глаза с удовольствием останавливаются на знакомых вещах. Их можно даже назвать: плита, пол. Все верно. Но на столе лежит это письмо на розовой бумаге, вскрытый конверт… Опасность! Надо бежать отсюда… Вот так, спиной к стене, потихоньку открыть дверь, сразу же резко захлопнуть ее и запереть на один — нет, на два оборота. Теперь уже неизвестно, что происходит за этой дверью. Да лучше этого и не знать. А то увидишь вдруг, как буквы надуваются, разделяются, образуют линии, из которых в конце концов получается ужасный силуэт.
Добежав до конца улицы, Равинель оборачивается. Он не погасил свет, и от этого создавалось впечатление, что в доме кто-то есть. Часто по вечерам, возвращаясь из своих поездок, он видел за шторами тень Мирей. Но сейчас он отошел слишком далеко и, если бы даже тень мелькнула, не смог бы ее увидеть. Равинель идет на вокзал. Голова его не покрыта. Он выпивает две кружки пива в привокзальном кафе. Официант, которого зовут Виктор, слишком занят, иначе он обязательно подошел бы, чтобы поболтать о том о сем. Он подмигивает Равинелю, улыбается. Как объяснить, что прохладное пиво обжигает ему грудь, как спирт? Бежать? А что это изменит? Ведь комиссар полиции может получить другое письмо на такой же розовой бумаге, в котором речь будет идти о преступлении. Мирей может подать жалобу, что ее убили. Стоп! Не думать об этом. На вокзале много народа. Свет режет глаза. Красный сигнал кажется слишком ярким, а зеленый — каким-то бледным, расплывчатым. Газеты в киоске пахнут типографской краской. Даже от людей несет запахом дичи, а поезд пахнет, как вагоны метро в час пик. Да, к этому все и шло. Рано или поздно он неизбежно должен был обнаружить то, чего другие люди не понимали и не чувствовали. Живые, мертвые — все едино. Люди грубы, они воображают себе, что мертвые ушли далеко, в иной мир. Неправда! Они здесь, невидимые, но продолжающие свою работу.