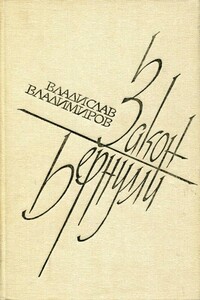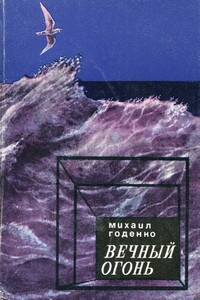Синяя тень | страница 32
Долго ли мной владели приступы отчаянья? Дольше, конечно, чем минуты экстаза, но в общем — недолго.
И чтобы перейти к тому дню, когда… чтобы уже перейти к этому дню, надо добавить, что все подробности той реальной минуты, которую судорожно удерживала я, совсем не были мне приятны — ни я сама, оцепеневшая в страхе сдвинуться с места, ни звуки за стеной, ни прошедший мимо человек. Не потому, что они мне нравились, вцеплялась я в них, а просто страшась неумолимого исчезновения всего. Ибо только в бытовом невнимательном представлении комната на другой день была все той же комнатой, я все той же я, время все тем же временем.
Так это было для меня, несмотря на тысячу дел, увлечений, привязанностей, несмотря на все то, что и составляло для всех, даже самых близких, мою сущность в то время. Потому что не только говорить об этом — даже додумывать свои мысли до четкости я не хотела, не смела, не могла. Ни о тщетности существования. Ни даже о Вселенной. Хотя, казалось бы, что за секрет — Вселенная, всем явленная, всех объемлющая? И все-таки я страшилась за Вселенную, словно восприятие другого человека, восторжествуй оно над моим, могло бы разрушить, исказить, испортить ее. Словно мое восприятие и была сама эта Вселенная.
Неуверенность ли во Вселенной, моя ли зависимость от нее, ее ли зависимость от меня — это тоже было тайное, чего не хотелось открывать даже себе. Серая промозглость была еще большей тайной — даже от себя, потому что смерти равным было бы отождествлять ее с миром. Я предпочитала считать ее своей стыдной болезнью, немощью своего разума.
Забавно, однако, сколько даже в самых открытых детях и подростках этих тщательно скрываемых параллельных жизней и обликов. Много что густо томило меня в эти самые беззаботные, полные болтовни, дел и веселья годы. Страх перед следующей минутой, перед засыпанием — разве смела я обозначить его признающим словом? Ибо засыпания я тоже боялась — будто под моим неусыпным взглядом минуты все-таки не были так неуловимы, так смертоносны. Время томило меня, хотя должно было бы воодушевлять — ведь я под всеми парусами шла к вершине жизни — юности, зрелости, любви, познанию, творчеству. В минуты, когда мир представал безнадежным, все это теряло смысл — юность, любовь, познание, творчество. Единственным оправданием течения времени был бы выход к сияющей сути Вселенной, пусть даже уничтожающий все прежнее — он того стоил. Вот приблизительный абрис того, что я тогда чувствовала, чем жила.