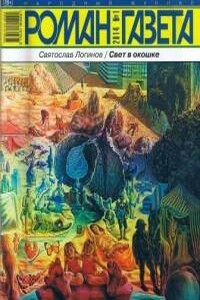Синяя тень | страница 23
А умерла — ослаб.
Все дочки были в разъезде. И обряжать тетку Полину, и слать телеграммы дочкам, и готовить поминальное, и обустраивать, как тогда, когда строили дом, поднялась вся улица, и дом убрали так чисто, как в нем никогда, наверное, и не бывало. Приодели и дядю Петю. Он тихо сидел в уголке, никого не обременяя собой. К вечеру вспомнили о нем:
— Дядя Петя, садись поешь!
Он послушно сел, но тут же и опустил почерпнутую ложку:
— Не хочется… Вот если бы с Никаноровной…
Лег, а стали будить — оказалось, умер.
Хоронили их не только всей улицей — чуть ли не всем Городом-садом. Вместе вошли Петро и Полина в дом — вместе и вышли, И не какая-нибудь катастрофа, дорожное происшествие — сама жизнь. Они жили долго, но долгая жизнь оказалась короткой — умерли же они в один день.
На кладбище среди густой череды жестких стел из железа и мраморной крошки, которые ржавеют и разваливаются быстрее, чем проходит кратковременная память, есть один общий широкий холмик, две надписи на общем памятнике и общая фотография: большая, грудастая женщина с очень темными глазами, не то страдальческими, не то сердитыми — и прислонившийся к ней казачок с пшеничными мягкими усами; Евсюки Петр Гаврилович и Полина Никаноровна.
Они жили долго и счастливо и умерли в один день.
Час открытых дверей
Василию Сергееву
…В юности, говорите вы? Ну как же, тоска была, как же ей в юности не быть? Вселенская тоска, любовная тоска, бытовая тоска — какой только тоски не было!
И теории были. Возможно, для ухода от этой многоголовой тоски. Для преоборения ее даже. Да, мол, сейчас мы все еще недочеловеки — с огромными усилиями, большой кровью, с ошибками и провалами решаем земные проблемы, ну а ко вселенским-то еще только-только приступаем. Да и как приступить по-настоящему, если каждый сам себе пуп земли, ну а Вселенная-то попросту может и не замечать эти пупы. Но — постепенно дойдем мы, сольемся в сверхчеловечество, даже в надчеловечество, и тогда-то уж станем соизмеримы со Вселенной; быта и мелких подробностей уже не будет, а будет что-то вроде торжественного «а-а-а!» — заключительный вечный аккорд, в котором сольются человечество и Вселенная.
С этим сверхчеловечеством было проще простого: торжественное «а-а-а!» — и все тут.
Но я был довольно способным малым, преуспевал в физике и математике, и меня тянуло не просто на аккорды. Кстати, слуха у меня никогда не было, но для заключительного аккорда, по-моему, его и не нужно было, к тому же говорили, что у меня внутренний слух, и так, наверное, оно и было, потому что вот это «а-а-а!» я слышал очень отчетливо в минуты духовного просветления. Так вот, в силу моих способностей к обобщениям и теориям меня тянуло не только на аккорды, но и на схемы. Прекрасная схема, надо сказать, получилась у меня однажды. Я знал, что не с самого начала иду, но линия, в какую бы сторону она ни продолжалась, уже была линией, костяком мира. В ровные квадратики с перемычками — уже квадратики, помню, мне нравилось делать очень тонко и ровно — я поместил последовательно «элементарную частицу», «кристалл», «молекулу» и прочее. Над «живой клеткой» восходила вертикаль — «жизнь», «человек», «общество». В этом месте я, правда, посомневался, что выше: «человек» или «общество». Понадобилось даже волевое, я бы сказал, волюнтаристское усилие, и — повернул все же! Не помню уж, что над чем. А дальше совершенно ясно: «сверхсоциум». И — свершилось: тут — мир, тут — я, владеющий. Весь мир, собранный в горсть. А потом, что бы со мной, лично со мной ни было, но это уже есть. Было и будет. Да, стоило схему нарисовать, и я уже как бы владел Вселенной. Больше, чем владел. Она уже была несущественна, поскольку определена и предопределена… Был ли это восторг? Да нет. Скорее гордое, горделивое удовлетворение, как бы успокоение, что все идет, как надо, и моя тоска несущественна. Возможно, даже и тоска-то, думалось мне, от того, что я вижу так далеко вперед, а мелкая действительность, как болото, держит меня, не давая заглянуть в сам этот сверхсоциум, в это слияние, в это «а-а-а!», в эти заключительные бессмертие и вечность.