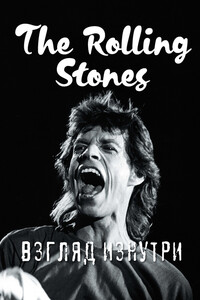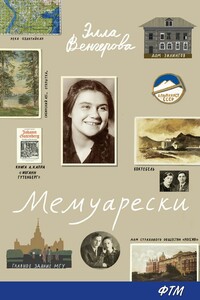«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке | страница 51
Интересно и ярко описал Куляшиньский свои этнографические странствия, реки и горы Тункинской долины, многочисленные минеральные источники, обычаи тамошних жителей; в пещерах он обнаружил следы имен, выбитых в 1840 году польскими ссыльными – Феликс и Паулина Ивашкевич. «Я нахожусь в котловине Байкальских гор, – писал он по горячим следам, в пути, – к югу от Байкала, в двенадцати милях от озера. Слова Данте – «Lasciate ogni speranca voi ch'entrate» («Оставь надежду всяк сюда входящий») – пришли мне на ум, и пробрала меня смертная дрожь. […] Нескоро, вследствие условий моего существования, я сумел осмотреть ее [долину. – Э.Н.] и ее жителей, но теперь постепенно заглядываю в разные уголки и результаты всех этих наблюдений хоть и робко, доверяю бумаге». Находясь в Туране, где-то неподалеку от берегов Ихэ-Ухгуня, он писал о тамошних целебных источниках: «В этом ущелье множество источников бьет из-под скал и всякий приносит человеку облегчение. Буряты вешают на дерево разноцветные лоскутки [называемые зурмадахан. – Э.Н.] Кроме серного источника, у которого растет акация, украшенная лоскутками, здесь есть источник горькой воды, полезной для зрения, возле него пестреет лоскутками плакучая березка. Это украшение деревьев рядом с целебными источниками буряты почитают своим религиозным долгом, словно в благодарность Бурхану за заботу о больных, чьи недуги вызваны мощью Шигемуни. На вершине горы, над самой купальней, находится латинский крест, установленный, как свидетельствует надпись, Влодзимежем Раевским в 1840 году».
«Посетить» это место Куляшиньский никого из своих товарищей не уговорил, но его сопровождал знакомый местный житель, прекрасно знавший окрестности. И хотя священников в Тунке проживало на тот момент еще много, большинство из них были заняты скорее будущим и попытками добиться перевода в европейскую часть Империи, а не мыслями о «путешествиях». К тому же среда ссыльных тогда оказалась расколота делом, связанным с казачьим атаманом.
В 1873 году группа священников, имевших хорошие отношения с надзиравшим за ссыльными капитаном Плотниковым, решила сделать ему подарок. Сторонники этой идеи утверждали, что офицер отличается исключительной доброжелательностью и много помогал ксендзам, сквозь пальцы смотрел на проводившиеся ими втайне службы, и заслуживает благодарности. Поводом сделать подарок стала отставка Плотникова с должности в Тунке, связанная, в частности, с его потаканием польским ссыльным, а также отъезды самих священников. Идея вызвала бурные дискуссии и споры, поскольку многие изгнанники считали, что «если русский – значит, враг», и ни о каких подарках речи быть не может. Провели тайное голосование, пытаясь решить, как поступить, но в результате все еще более осложнилось: одни выступали за то, чтобы не дарить ничего, другие – чтобы подарить золотые карманные часы, третьи – перстень с памятной надписью, четвертые – перстень без надписи. В конце концов, решили презентовать Плотникову перстень без надписи, и 21 августа 1873 года его вручил русскому ксендз Юзеф Писанко.