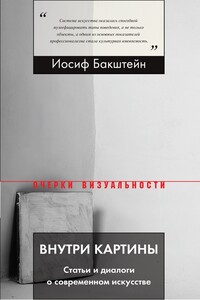«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке | страница 33
Ссыльные основали (также за счет взносов) еще больничную кассу, аптеку и собственную службу здравоохранения, поскольку убедились, что иркутские чиновники не планируют этим заниматься – они даже отказались прислать в Тунку постоянного врача. Лишь время от времени деревню посещал «государственный медик». Так что священникам приходилось лечиться самостоятельно, пользуясь при этом лекарствами, присылавшимися капитану Плотникову.
Руководство организацией аптеки и ее функционированием взял на себя сперва ксендз Амброзий Гжимала, монах-францисканец из Журомина, а затем ксендз Юзеф Писанко, викарий из Березины близ Минска (на родине на протяжении многих лет являвшийся фармацевтом). Все необходимое привезли из Иркутска, чиновники, которым идея пришлась по душе, «прислали большое количество лечебных трав и различных медицинских ингредиентов», а иркутский приходской священник Швермицкий – «превосходную, дорогостоящую электрическую плитку». Для более эффективной работы «службы здравоохранения» территорию Тунки разделили на пять частей, для каждой из которых назначили так называемого инфирмерия, опекавшего «своих» больных, навещавшего их, обеспечивавшего лекарствами и т. д. Главным инфирмерием являлся ксендз Эразм Ключевский. «Медбратья» также помогали «врачам»: варшавскому канонику Людвику Чаевичу и миссионеру из Плоцка Рафалу Древновскому.
Эти двое в предшествующий пребыванию в Тунке период ссылки (в Енисейской губернии) учились у польских ссыльных врачей медицинскому ремеслу. Древновский при этом уже обладал некоторыми теоретическими познаниями, полученными на частных курсах в Варшаве и при посещении медицинских учреждений в Париже. Чаевич же учился у доктора Антония Барановского, выпускника университета в Дерпте – по пути из Варшавы, а затем проживая по соседству с ним в деревне Большие Сыры. Кроме того, у обоих священников имелась в Тунке специальная литература. «Знание латыни облегчило им знакомство с рецептурой, кроме того, вне всяких сомнений, также и врожденные способности помогли […] приобрести практический опыт и успешно заниматься уже самостоятельным лечением». Они делали это тайно, поскольку не имели официального разрешения, но иркутские чиновники, хоть и были в курсе сложившейся ситуации, не чинили препон.
Когда в 1868 году доминиканец отец Филипп Мокшецкий (а также его близкие на родине) ходатайствовал о том, чтобы в связи с плохим состоянием здоровья ему разрешили покинуть Тунку и поселиться в Омске, 11 января 1869 года генерал Константин Николаевич Шеласников, возражавший против освобождения ссыльного, сообщал начальнику Корпуса жандармов: здравоохранение в Тунке налажено превосходно, что касается климата, деревня – одна из самых здоровых, у священников имеется собственная аптека, периодически приезжают государственные врачи, а «многие» ссыльные хорошо разбираются в медицине. Ведь еще в конце прошлого года вышеупомянутые священники Чаевич и Древновский получили официальное разрешение генерал-губернатора Восточной Сибири на лечение своих соотечественников. Они также не отказывали в помощи и другим нуждавшимся в ней жителям деревни, однако такого рода деятельность уже вынуждены были скрывать. Лишь летом 1871 года новый генерал-губернатор Николай Синельников поручил Чаевичу осуществлять «фельдшерскую помощь» местному населению из окрестных улусов, «которую он и так уже раньше оным оказывал». Известно, что «его обожали бедные полудикие буряты, которых он окружил горячей заботой».