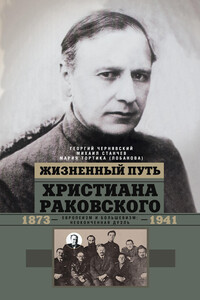«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке | страница 26
Встреча с ссыльными состоялась в казачьей станице. Купенко доказывал, что правительство не в состоянии увеличить размер пособия, ксендзы проинформировали его о местных ценах и предоставили счета, из которых следовало, что только на жизнь им требуется семь рублей в месяц, не считая затрат на жилье и одежду. Аргументы ксендзов поддержал также поручик Плотников. Тогда Купенко предложил ксендзам заняться земледелием или рыбной ловлей, это, мол, поможет им выжить, а кроме того, советовал по двое занять «казенные» пустовавшие хибары, бесплатно, образовав в тункинкой «России» польскую колонию, и согласиться на трехрублевое месячное пособие. Ссыльные отказывались принять такие условия, потому что хибары эти были маленькими, полуразрушенными (их еще только собирались ремонтировать – за счет самих ксендзов), без сеней и заборов, к тому же на территории «России» имелось всего три маленьких колодца. В конечном счете Купенко согласился, чтобы ксендзы получали шестирублевое пособие, с тем, что они сами найдут себе жилье у крестьян и покинут дома, которые заняли прежде. В середине июня специальный комитет по делам быта политических ссыльных в Иркутске и генерал-губернатор Корсаков приняли решение выделить ксендзам в Тунке пособие в размере семидесяти двух рублей в год, то есть по шесть рублей в месяц.
Шесть рублей (на жилье и питание), выплачиваемые задним числом, позволяли – при большой экономии – кое-как выжить. Их давали только тем, кто не получал никакой поддержки с родины. «[…] в этом случае мы могли устроиться с большим удобством и кое-как одеться», – вспоминал Матрась. Однако зачастую пособие не платили или задерживали, а вновь прибывшие в Тунку ксендзы должны были лично ходатайствовать о предоставлении помощи. Мало кому этого хватало, но долгое время духовные лица не предпринимали почти никаких шагов, чтобы улучшить свое положение. Они вели себя так же, как другие ссыльные в аналогичных ситуациях – ждали изменений к лучшему от чиновников или – наивно – освобождения, а может, также рассчитывали, что сумеют воспользоваться пребыванием в Сибири для миссионерской работы среди неверных.
Ходатайствовал о них перед высшими инстанциями в Иркутске их официальный духовный опекун, уже упоминавшийся иркутский священник Швермицкий. Объехав зимой 1868 года с религиозной миссией Иркутскую губернию и Якутскую область, сам потрясенный нищетой ссыльных, а также по их просьбам, он 23 марта обратился к генерал-губернатору Восточной Сибири с просьбой облегчить участь не только ксендзов Тунки, но и других польских изгнанников на этих территориях. Он писал об их тяжелом положении, отягченном неурожаем предыдущего года, о нищете, особенно стариках и больных, одиноких, не имеющих и «куска хлеба насущного». Он доказывал, что хотя духовные лица в Тунке (где много старых и больных) получают пособие «на прокорм», шесть рублей серебром, но все равно испытывают крайнюю нужду, усугубляемую дороговизной в деревне всех продуктов; государственного пособия хватает лишь на хлеб, а ведь необходимы еще одежда, обувь, дрова и жилье. Он просил власти согласиться на повышение лимита пересылаемых родными сумм до четырехсот рублей в год (вместо прежних трехсот) и разрешить таким лицам получать также пособие, и лишить его лишь тех, кто получает больше указанной квоты. Ничто не указывает на то, что чиновники вняли просьбам и предложениям иркутского священника.