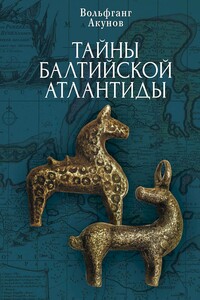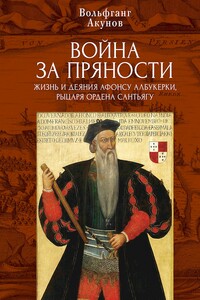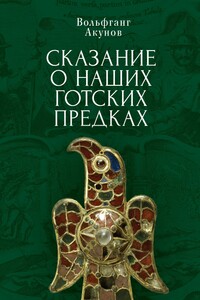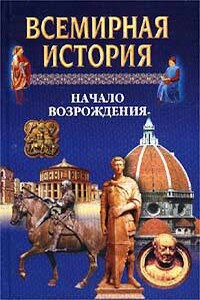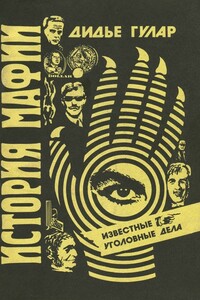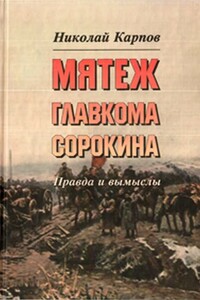Вандалы — оклеветанный народ | страница 118
Независимо от того, насчитывал ли Карфаген миллион или (как полагают иные историки) «всего лишь» семьсот тысяч жителей, он без труда мог бы выставить раз в десять больше мужей, способных носить оружие, чем числилось во всем вандало-аланском войске. Но никто из этих вполне боеспособных «потомков Ганнибала и Сципиона» и не подумал хотя бы поднять с земли камень, чтобы бросить его в подступающих вандалов («нема дурных»). Римский гарнизон Карфагена давно покинул город, в надежде на соблюдение новоявленными «федератами» Римской империи мирного договора 435 г. Карфаген сам упал в руки Гейзериха как спелый, соблазнительный плод. Но этот плод оказался с червоточиной. И «Зинзирих-рига» вскоре убедился в том, что лучше было бы ему оставить этот «град греха» порочным римлянам, предварительно окружив его санитарным кордоном, как очаг опаснейшей заразы («нехай загнивают»). Что хорошего могло ожидать его «народ-войско» в римско-африканском мегаполисе, чьи жители почти не обратили внимание на вандальскую грозу, занятые больше гладиаторскими играми и колесничными бегами, не отвлекаясь от своих обычных развлечений и удостаивая «понаехавших» к ним чужаков в диковинной, варварской одежде и со странными прическами, бродивших среди толп горожан, словно потерянные, лишь насмешки? Вряд ли кто из карфагенских афроримлян помнил о вандальской але, охранявшей некогда римскую Африку и их греховный град от варваров-берберов. Гейзерих был явно озадачен и не знал, что ему делать с карфагенскими праздношатающимися бездельниками. Пять тысяч из них можно было бы обратить в рабство. Десять тысяч — отправить на полевые работы. Но что ему было делать с миллионом (или даже семьюстами тысячами) тунеядцев, говоривших на другом языке, исповедовавших другую веру, ведших другой образ жизни? Предоставивших завоевателям-вандалам сомнительную честь заботиться об их пропитании и в лучшем случае, взимать с них кое-какие налоги. В обмен на эту «честь» вандалам пришлось, однако, иметь дело с самыми воинственными клириками христианской Экумены, прошедшими школу великих учителей церкви, с набравшимися опыта на Вселенских соборах диалектиками, с издевательским высокомерием благоухающих почище всякой парфюмерной лавки элегантных юношей, свободно болтавших на столь трудно дававшейся варварам латыни (являвшейся родным языком карфагенской элиты, несмотря на ее финикийско-африканское происхождение).
Правда, эти бездельники-карфагеняне, если и протестовали против прихода вандалов «со товарищи», то лишь словесно, беззаботно — так, по крайней мере, казалось! — наслаждаясь своей привычной сладкой жизнью, чем Карфаген тогда славился на весь античный мир (не зря же именно туда понесло в свое время еще не просвещенного светом истинной веры Аврелия Августина), и благодаря чему североафриканский мегаполис уже начал считаться, в отличие от приходивших во все больший упадок Ветхого Рима и Медиолана, новой столицей Западной Римской империи (окруженная болотами Равенна оставалась, несмотря на все более частое и продолжительное пребывание в ее стенах императоров Запада, все-таки провинциальным городом — так сказать, «большой деревней»). Правда, данное обстоятельство превратило Карфаген (как когда-то — Первый Рим) в излюбленную мишень для критических стрел античных авторов, пытавшихся, попав в стремительный водоворот событий, понять смысл и причины совершающейся Великой Перемены в судьбах стран и народов. Понять и обосновать становящийся все более очевидным факт перехода власти над всем обитаемым миром от римлян ко всем этим германцам и прочим, пред которыми «не грех помочиться, а то и побольше» (как писал в одной из своих сатир беспощадный Ювенал, как истый римлянин, не выносивший «понаехавших»). Сальвиан, пресвитер Массилии (Массалии), нынешнего Марселя, родившийся, видимо, в Августе Треверов, современном Трире, считал, что римляне — сами себе самые худшие враги, и «не столько варвары их разгромили, сколько они (римляне. — В. А.) сами себя уничтожили». Сальвиан писал в своих «Рассуждениях очевидца» о причинах падения Западной Римской империи: «Единственное желание всех римлян состоит в том, чтобы не пришлось опять когда-нибудь подпасть под римские законы. Единственная и всеобщая мечта римского простолюдина (лат. романэ плебис) заключается в том, чтобы жить с варварами. И мы еще удивляемся, что не можем победить готов, когда сами римляне предпочитают быть с ними, нежели с нами».