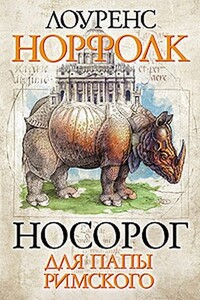Акулы во дни спасателей | страница 116
Ну разумеется.
Началось это вскоре после возвращения из Хонокаа с поисков Ноа. Оги повадился просыпаться среди ночи — в два, в три часа — и тишком уходить из дома. Куда — не знаю. Уходит, возвращается через несколько часов, крадется по скрипящим половицам в спальню, оставляя след: листья в коридоре, сырой запах земли и папоротников на коже. Хрустнув коленями, садится на край кровати, да так и сидит, и я чувствую, как дрожит матрас от его беззвучных рыданий.
Пока что я с ним об этом не говорила. Почему, сама не знаю. Уж очень хрупок этот секрет его прогулок, точно вся тяжесть того, чем мы станем, держится на нескольких тоненьких нитях тайны. При этом он уверен, что Найноа мертв, я же знаю, что наш сын жив. Мы никогда не говорим об этом прямо, разве только намеками. Так что Оги бродит и скорбит в одиночестве. Он никогда не допускал, чтобы я видела его таким. Только смех или озадаченно нахмуренный лоб, но никогда — кривые зубы горя.
Ох уж эти мужчины, внезапно думаю я. К чему они вечно глотают боль, загоняют внутрь себя, в укромные уголки души, сжимают ее, как мышцу? Так поступил — поступает — Найноа, уйдя в долину, и еще раньше, когда по телефону вяло цедил общие фразы: “В Портленде все в порядке, очередной день автомобильных аварий и бытового насилия”, но достаточно было увидеть, как он играет на уке, и становилось ясно, что сердце его вот-вот разорвется. Так поступает и Дин, болтает о том о сем, над всеми подшучивает, с виду крутой, на все найдет ответ, но стоит ему вспомнить о баскетболе — и глаза сияют. После того случая он ни разу меня не ударил — вообще ни на кого из семьи больше не поднимал руку, — и все равно я не могу забыть, что он способен выйти из себя. Теперь вот и муж. Все время шутит, конечно же. Когда мы только начали встречаться, мне это в нем нравилось больше всего. Он шутил, смеялся, да так заразительно, что смех его пузырился у меня в легких, и мы хохотали до слез. Потом-то я поняла, что смех — всего лишь первая стена, которую он выстроил, чтобы защититься от боли мира. И сейчас он бродит по лесу, потому что стена эта рухнула.
Вот я, вот он, скрипнул дверью, застыл на пороге. Веки набрякли, глаза в красных прожилках, но щеки по-прежнему круглые, мясистые. Хлопковая рубашка обтягивает грудь и выпирающий живот, единственную часть его тела, которая после нашей свадьбы росла медленно, но уверенно; старенькие джинсы того и гляди порвутся на коленках. Шоколадная кожа, согретая солнцем, блестит даже ночью. Он снимает тапки, вытирает рукой тонкие усики, которые отпустил недавно.