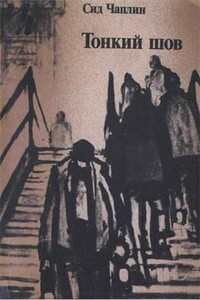Акулы во дни спасателей | страница 102
— Там что-то есть. — Слова Лукаса выводят меня из задумчивости.
— Что? — спрашиваю я.
Саския нежно обращается к нему по-немецки, Лукас отвечает ей шутливо, возвысив голос на добрую октаву.
— Что-то в этой земле, — поясняет Саския. — Она и человек, и животное, и другое, не знаю. — Она кладет голову Лукасу на плечо. — У нас нет веры, — говорит она мне, — но мы оба считаем, что это место вроде такого.
И меня охватывает пьянящее чувство счастья. Если уж эти двое что-то чувствуют, если уж они думают, что эта земля особенная…
— Да, — говорю я, — здесь что-то есть… — И начинаю рассказывать, слишком быстро, слова срываются с губ, не коснувшись мозга, я выпаливаю все, что хотел сказать о том, как чувствую себя здесь. Наконец ловлю себя на фразе: “Это может сделать лучше весь мир, правда? Если за дело возьмется правильный человек”.
Они улыбаются, но как-то вопросительно, приподняв брови, недоуменно наморщив лоб. Все, что было между нами, вдруг кажется мне банальным.
— Постойте, — говорю я, хотя никто ничего не делает. — У меня идея.
Я вынимаю из рюкзака пакетик разноцветных карамелек, аккуратно разрываю, предлагаю Лукасу и Саскии. Оборачиваюсь к рюкзаку, достаю укулеле, открываю футляр.
— Вы слышали наши песни?
Я снова протягиваю им конфеты, каждый берет по одной. Лукас кладет карамельку в рот, хмурится, что-то говорит Саскии, и она тут же выплевывает конфету в ладонь, жестом велит ему сделать так же, подходит к окну и сквозь дырку в стекле выбрасывает конфеты в темноту.
— Мы можем послушать песни, — говорит она, — но такого больше не надо, — она показывает на пакетик карамелек, — пожалуйста.
Я смеюсь.
— Это всего лишь конфеты, — говорю я. — Разве у вас в Германии нет конфет?
Саския достает из своего рюкзака плитку темного шоколада в красивой обертке, разворачивает фольгу и отламывает всем по дольке.
— Вот, — произносит она, — мы это делаем правильно.
— Что ж, дайте нам ваши песни, — добавляет Лукас. Глаза его блестят. — И расскажите об этом месте.
Я поднимаю руку, чувствуя все и сразу, от призраков древних воинов до настоящего момента. То, что у меня во рту, касается моего языка и расцветает, темное, сладкое, горьковатое.
Наступает утро, я просыпаюсь в углу хижины, во влажном кармане спального мешка. На рассвете лачуга выглядит хуже: почерневшие доски, от половиц тянет сыростью, вьется гнилостный парок, потолочные балки в ошметках птичьих гнезд изогнулись, провисли. Столик, который накануне вечером, когда мы за ним сидели, казался достаточно прочным, качается, белесая столешница покоробилась. Гниль проела в потолке дыры, и когда облако над головой рвется на части, сквозь эти дыры бьют косые лучики белого света, рассыпаются по стенам и полу.