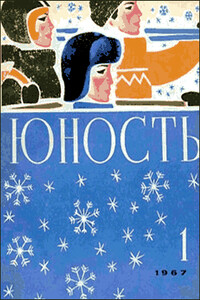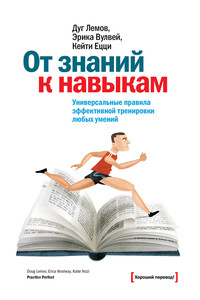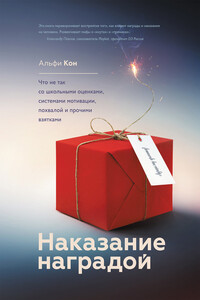Чувство движения. Интеллектуальная история | страница 45
Илл. 2. Фронтиспис к «Энциклопедии, или Толковому словарю наук, искусств и ремесел» под редакцией Д. Дидро и Ж.-Л. д’Аламбера. Т. I. Движение раскрытия истины
Вопрос о вкладе каждого из чувств – зрения и осязания – в познание внешнего мира был и долго оставался в форме гипотетического, который ранее задал Уильям Молинью, ирландский корреспондент Локка:
«Предположим, человек, рожденный слепым, научился во взрослом состоянии наощупь различать куб и сферу. <…> Предположим, куб и сферу поставили перед ним на столе, а человек прозрел. Сможет ли он только при помощи зрения, не пощупав их, различить, где куб, а где сфера?»[45]
Локк и Беркли думали, что прозревший человек не сразу «увидит» разницу: распознавание форм куба и сферы, говорили они, происходит благодаря осязанию, которое подсказывает эти идеи зрению. В середине XVIII века шотландский врач Уильям Портерфилд, наоборот, приписывал присущую одному лишь зрению (без осязания) способность определять расстояние и форму, и поэтому на вопрос Молинью дал положительный ответ (Wade, 2012, p. 464–465, 478–479)[46]. Тем не менее позиция Беркли (или близкая к ней) оставалась доминирующей, по крайней мере, в Великобритании вплоть до 1830–1840-х годов, когда ее стали критиковать Уильям Гамильтон и Самуэль Бейли. Но и тогда Дж. С. Милл и другие отстаивали принципиальную позицию Беркли[47]. С исторической точки зрения важно подчеркнуть, что теория зрения Беркли сосредоточила интерес на осязании как на первичном и главном чувстве, передающем идеи (если использовать термин Локка) об окружающем мире.
Чувствительность
Дискуссия о психологии чувств и источниках знания не ослабевала в образованном, культурном обществе, которое в те годы росло очень быстро, преимущественно в Великобритании, Франции и в центрах сосредоточения культуры других стран, и она проходила либо под эгидой аристократии, либо вдохновленная республиканским духом. Опыт и образная система, связанные с осязанием, были в центре нового воспитания чувств как цели и средства цивилизованной или утонченной жизни. Характеризуя вторую половину XVIII века как «эпоху чувствительности» (выражение, введенное в оборот Нортропом Фраем), литературоведы великолепно продемонстрировали, как чувствительность, говоря современным языком, пересекала границы физиологии, медицины, литературы, искусств и светского общества. Это была культура, в которой процветал язык осязания, включающего в себя сознание, тело и нервы. Дискуссии о теле, осязании и движении находили живой отклик в повседневной жизни и, конечно, в размышлениях о самой жизненной природе (cм.: Figlio, 1975).