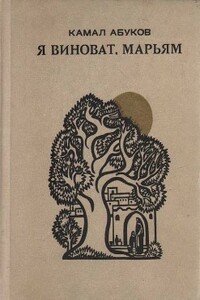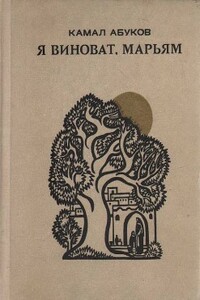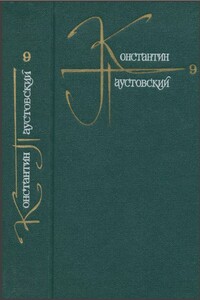Жизнь — минуты, годы... | страница 17
Есть фокус прожектора человеческой памяти, а дальше — ничто, но через этот фокус — вечные путники, идут из небытия маленькие стада дикарей и уходят в никуда… идут племена… народы… нации, идут континенты — черный, белый, желтый… Вечно ищущие, вечные путники, где-то впереди мерещится им правда, высятся будды, иеговы, шивы, вотаны, магометы. Люди ищут правду, и она, вчеканенная в твердый гранит, написанная на пергаменте, на бумаге, созданная в легендах, приходит к ним, но они снова ищут. Подлинную, настоящую! Племена, народы, нации, — где-то там, в седой древности, в предыстории человечества, на далеких подступах к семнадцатому году.
Она прижалась к его плечу и шепнула на ухо:
— Я хочу вечно ехать вот так, рядом с тобою, чтобы никого не было, только мы.
— Это тебе очень скоро надоело бы.
— Я знаю, что надоело бы, и все же я этого хочу. Я с тобой так счастлива.
— Полчаса назад ты говорила совершенно противоположное.
— Если бы человек вдруг удовлетворил сразу все свои желания, он стал бы самым несчастным существом на земле, не правда ли?.. Я хочу быть с тобою всегда.
Увидев впереди знакомый двухэтажный дом, Василий Петрович остановился, он почувствовал, как им овладевает робость, захотелось вернуться назад и позвонить по телефону-автомату, сказать, что он нездоров, но такое малодушие показалось ему унизительным. На какое-то мгновение он остановился в нерешительности, потом снова двинулся вперед, чувствуя, что у него дрожат руки и колотится сердце. Он достал носовой платок, вытер вспотевшее лицо, шею, ему стало вдруг душно и от жары, и от неловкости перед встречей с товарищами по работе, невыносимым был уже сам факт, что он трусил перед своими товарищами. Не врагами, а товарищами… Из коридора повеяло свежестью и тишиной. Василий Петрович даже не попытался приободрить себя надеждой, что никто еще не пришел, и спросил уборщицу:
— Кто-нибудь есть?
Уборщица не поняла его вопроса и в ответ что-то невнятно пробормотала, чего Василий Петрович не смог разобрать; поднимаясь на второй этаж, он считал ступеньки, насчитал двадцать шесть, зачем-то постучал в дверь, хотя никогда раньше этого не делал.
— Здравствуйте, — сказал он негромко, и, вероятно, его голоса не услышали за разговорами, потому что никто не ответил.
Уже ждут, подумал Василий Петрович. Цецилия Федоровна придет последней, третий стул у окна — ее стул, у каждого он свой — Иван Иванович сядет у печки, Кирилл Михайлович рядом… Свой стул, свое традиционное место, когда-то сел случайно, а теперь место — свое. Эмиль хочет сеять бобы, но Робер на этом месте раньше него посеял дыни. Будь добр, освободи это место, потому что я, по теории Руссо, завладел им раньше. Что думают обо мне? Отворачиваются… Представляете, товарищи, до какой подлости дошел наш коллега! С грязью смешают, как Титинца за пьянство. Плакал бедняга. Нет, плакать не буду, я укушу, попробуй только замахнись на меня — без руки останешься. У Ивана Ивановича уши как знак вопроса, не хватает внизу только точки, какой-нибудь сережки или кольца, чтоб как у дикаря, зато у Кирилла Михайловича уши — ни дать ни взять — расписные кувшинчики — куманцы.