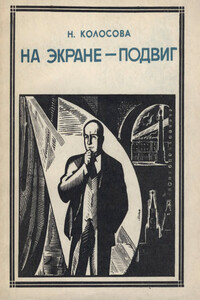Тарковский и я. Дневник пионерки | страница 57
Надо сказать, что красноречие Андрея росло прямо пропорционально выпитому, но никогда не становилось пьяной, невразумительной болтовней. Он открывался, как раковина, и становился беззащитным. Я думаю, что скрывавшаяся им и, видимо, тяготившая его неприспособленность к практической жизни сыграла потом очень важную роль в его судьбе и, как ни странно, в человеческом становлении.
Он любил произносить длинные тосты, в которые вмещалось все его мировоззрение и отношение к каждому, сидящему за столом. В промежутках между «гранеными стаканчиками» он брал гитару и начинал очень отчетливо выводить слова, как правило, двух песен Генночки Шпаликова: «Ах, утону ли в Северной Двине или погибну как-нибудь иначе» или «Прощай, Садовое кольцо», которое он мучительно долго тянул каким-то особенным дребезжащим голосом, как будто пытавшимся обозначить что-то очень для него важное: «Я о-о-опускаюсь, о-о-опускаюсь… И на зна-а-ако-о-омое крыльцо-о-о чужо-о-го дома поднимаюсь»…
Прямо-таки опасливое предощущение уже свершающегося на наших глазах… Больше, пожалуй, я никогда не слышала, чтобы Андрей пел. Наверное, мне пришлось быть свидетелем его несколько запоздалого взросления, сдобренного отголосками бурной молодости, о которой потом мне пришлось только кое-что слышать… Узнавать, вопрошая вместе с Высоцким: «А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном», то есть там, где встречались когда-то — у Левы Качеряна — и Тарковский, и Кончаловский, и Шпаликов, и Артур Макаров, и Володя Акимов, готовые, очевидно, тогда, сдвигая бокалы, восклицать: «Друзья, прекрасен наш союз!»
Жалко, что все это было до меня, а мне достались лишь обрывки тех последних связей, которые Лариса постепенно, шаг за шагом обрубала на моих глазах не дрогнувшей рукой. Она объясняла мне, как важно вырвать Андрея с корнем из «вредного ему», а, на самом деле, конечно, прежде всего тяготившего ее, так называемого его прошлого, которое она прямо-таки ампутировала разного рода виртуозными операциями.
Я узнала Андрея, когда он, на самом деле думаю, мучительно и долго прощался с этой своей прошлой жизнью, вступая постепенно в совершенно новую для себя фазу, соединившую его до конца дней с урожденной Ларисой Павловной Егоркиной (Кизиловой — по первому браку).
Первой самой главной мишенью, предназначенной к ликвидации, была, конечно, недостойная Его Ирма Рауш.
Помню, как удивил меня гораздо более поздний и единственный теплый рассказ об Ирме, неожиданно прозвучавший для меня из уст Толи Солоницына. Ведь в моем представлении, обозначенном, конечно, Ларисой, все постепенно складывалось так, будто ее вовсе не было. А случился этот рассказ гораздо позднее, когда Андрей уже полностью врос в новую семью. Дело было на Мосфильмовской. Андрей уже бросил курить, и мы с Толей Солоницыным вышли с сигаретами на лестничную площадку во время очередного пышного Ларисиного застолья. И вдруг Толик так задумчиво, с какой-то отрешенной ностальгической грустью поведал мне: «А ты знаешь, я еще помню времена, когда Андрей жил с Ирмой у Курского, и сам себе жарил готовые котлеты.» Я была как-то озадачена, с трудом представляя, что Андрей мог