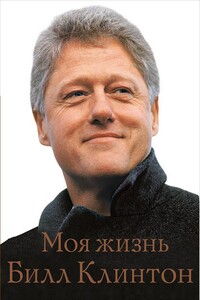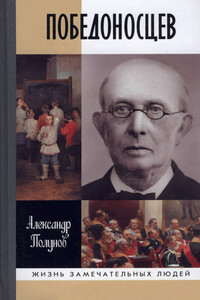Дубравлаг | страница 11
Приведу пример строгости в соблюдении лагерного кодекса поведения. Как-то в "доме свиданий", когда ко мне приехала моя мама, а к другому заключенному — жена, я, естественно, с этим другим заключенным познакомился. И в зоне уже здоровались, разговаривали. Вдруг подходит ко мне один знакомый и говорит: "А вы знаете, кто он такой?" — "Какой такой, я не понимаю". — "Это активист Ронжин, сука, красноповязочник". — "Я этого не знал". — "Вот то-то и оно. Так можно и вляпаться". Я поблагодарил человека за информацию о Ронжине. "Вляпаться" — в данном случае означает не то, что он меня заложит чекистам, а то, что я себя пачкаю, свою репутацию общением с прокаженным. Т. е., со вставшими на путь исправления нельзя было не только вместе пить чай, но даже разговаривать и здороваться. Полный, абсолютный бойкот. Кстати, Ронжин. Майор Советской Армии, по каким-то неполитическим мотивам бежал из ГДР в Западный Берлин (стены еще не было). Работал на радио "Свобода" (тогда — "Освобождение"). Потом или добровольно вернулся, как другой офицер-перебежчик И. В. Овчинников (на 11-м работал преподавателем немецкого в лагерной школе), или был хитроумно вывезен из Мюнхена в ГДР. Рассказывают так. Шел Ронжин на работу, на радиостанцию. Остановилась машина. На безупречном немецком языке хорошо одетые молодые люди спрашивают такую-то улицу. Она оказалась по пути, и Ронжин соглашается проехаться с ними до этой улицы. Он садится, ему — кляп в рот, голову вниз и на хорошей скорости по хорошей немецкой автостраде — в лагерь социализма, в ГДР. Дали за измену 25 лет. Дело в том, что новый Уголовный кодекс с предельным сроком в 15 лет был принят в декабре 1958 года (точнее, даже не сам кодекс, а "Основы уголовного законодательства"), и тот, кто был осужден раньше, так и тянул свои 25 лет (потолок по прежнему, сталинскому, кодексу). Один юный антисоветчик, протеревший уши о транзистор, постоянный слушатель "Свободы", подходит к зданию клуба-столовой и слышит до боли знакомый голос. Только теперь этот голос обличал не коммунистическую тиранию, а — заключенных, не выполняющих производственную норму.
Еще о моральном кодексе. Подходит ко мне где-то уже в середине срока новичок и спрашивает: "Мне предлагают работать посудомоем на кухне. Это разрешается по лагерным законам?" — "Да, это не считается зазорным", — ответил я, и это было действительно так: работа на кухне в политической зоне морально не возбранялась. "А вы бы пошли работать на кухню?" — последовал второй вопрос. — "Никогда!" — ответил я, видимо, немного запальчиво и с чувством оторопи. "Тогда и я не пойду!" — решительно заявил абитуриент. Вроде бы нюансы, но человек хочет сохранить честь и достоинство, как это понимают в политзоне. Нас швырнули на самое дно, ниже некуда. Мы обезличены и унижены советским режимом, превращены, как любил говорить большевик Берия, в лагерную пыль. И при этом мы тщательно бережем свое понимание о чести и совести.