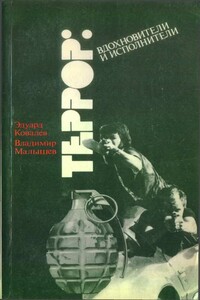Русская Атлантида. Невероятные биографии | страница 55
«… Шесть часов вечера. Падает снег. Я иду домой по Бассейной… Поднимаюсь с черного хода. Парадный недавно заколотили — для тепла и за ненадобностью. „Теперь нет господ, чтобы по парадным шляться!“ — заявляли большевики». Так с тех пор 70 лет мы и ходили в квартиры, превращенные в коммуналки, с черного хода…
«До чего же весело!»
Однако у юной Одоевцевой о том времени радужные воспоминания. «Голодный, холодный, снежный январь. Но до чего же весело! В „Живом слове“ лекции сменялись практическими занятиями и ритмической гимнастикой по Далькрозу. Кони возглавлял ораторское отделение, гостеприимно приглашая всех на свои лекции…»
писала восхищавшаяся тогда Гумилевым «поэтесса с огромным бантом», как она сама себя называла:
Она запоем слушает на вечерах в голодном городе, но в переполненных залах стихи Сологуба, Мандельштама, Белого. Популярного тогда и ныне совершенно забытого Тимофеева, прославившегося позднее знаменитыми «Бубличками»:
Становится свидетелем невероятного успеха Маяковского: «Зал восторженно загрохотал. Казалось, все грохотало, грохотали стулья, грохотали люстры, грохотал потолок и пол под звонкими ударами женских ног.
— Бис, бис, бис!.. — неслось отовсюду».
Восторженно слушает Блока:
Блок стоит неподвижно. В «ярком беспощадном свете» электрических ламп, направленных на него, еще резче выступает контраст между темным усталым лицом и окружающими его, как нимб, светлыми локонами:
Оказавшись потом в Париже, Одоевцева поражалась: «Просто невозможно себе представить, как слушали, как любили поэтов в те баснословные годы в Петербурге, да и во всей России. Марина Цветаева была права, когда писала: „Из страны, где мои стихи были нужны, как хлеб, я в 22-м году попала в страну, где ни мои стихи, ни вообще стихи никому не нужны“».
Нужнее хлеба
«Нет, — поправляет ее в своих воспоминаниях Одоевцева, — на этот раз Цветаева не преувеличила, а скорее преуменьшила — стихи тогда многим были даже нужнее хлеба».
Гумилев, ее кумир тех лет, тоже ничего не боялся. Однажды в Петербурге на вечере у балтфлотцев, читая стихи, он вдруг продекламировал: