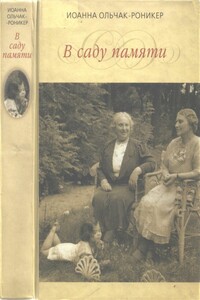Корчак. Опыт биографии | страница 75
11
Дальний Восток и близкая Михалувка
Спасибо тебе, добрый Боже, за луга и яркие закаты, за свежий вечерний ветерок после обжигающего дня зноя и тяжкой работы.
Януш Корчак. «Дневник», гетто, май 1942 года
Ядвига Вайдель-Дмоховская писала:
Надвигалась буря. <…> Первым видимым признаком, подобным отдаленному грому, был день десятого февраля 1904 года, когда разразилась русско-японская война, или, как ее называли, война на Дальнем Востоке. Еще прежде, чем ежедневные коммюнике приучили нас к экзотическим названиям городов и портов, эти отдаленные края стали ближе из-за угрозы мобилизации и отправки наших польских рекрутов в Маньчжурию.
Призыв рекрута… Ему всегда сопутствует неизменный, как любовь и смерть, плач остающихся жен и детей. У меня особенно запечатлелась в памяти одна из множества сцен, увиденная на углу Маршалковской и Иерусалимских аллей, под стеной старинного Варшавско-Венского вокзала. Видно, из провинции прибыли те, кого забрали «w sołdaty», – и ждали следующего перегона. Они стояли или сидели под стеной, очень бледные, с бесконечно печальным выражением глаз; польские лица под чужеземными, не виданными прежде в Варшаве громадными шапками из овчины, которыми «заботливые» царские власти обеспечили своих солдат в преддверии куда более грозной, чем враг, сибирской зимы. В сущности, то было единственное проявление их заботы, ибо вскоре до нас начали доходить леденящие кровь подробности о распоясавшемся царском интендантстве, у которого открылось чрезвычайно широкое поле для деятельности. Ходили легенды о сапогах с бумажной подошвой, о страшной переправе через замерзший Байкал – Кругобайкальская железная дорога еще только строилась – почти босых, иззябших солдат, падавших там чаще, чем под огнем японских пулеметов{95}.
Русско-японская война имела огромное значение для дальнейших судеб Польши, России, а в итоге и для всего мира. Она выявила слабость Российской империи, привела к революции 1905 года, благодаря которой смягчился царский режим. В поляках снова проснулись свободолюбивые порывы. Большевики укрепились в своих намерениях совершить государственный переворот. Мое поколение узнавало об этом в школе из советских учебников, написанных на корявом идеологическом жаргоне и нафаршированных цитатами из Ленина. Мы не верили ни единому их слову, ничего не понимали или не хотели понимать, потому что нам не было до этого дела.
Я не осознавала, что для поколения моей бабки те давние года были когда-то живым сегодняшним днем, полным тревожного ожидания какой-нибудь перемены, к худшему или к лучшему – неизвестно. Они прочитывали газеты от корки до корки, выискивая между стихотворных строк спрятанные от цензуры военные тайны, находили на картах экзотические названия: Порт-Артур, Мукден, Цусима – места, где русские терпели поражение в боях с японцами. Радовались неудачам, обнажавшим слабости колосса на глиняных ногах. Росла симпатия к Японии.