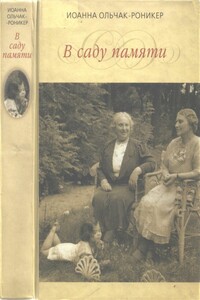Корчак. Опыт биографии | страница 131
Корчак не бывал в кафе «Максим» и в театре «Лиловый негр», его не завораживали дамские батистовые панталоны с разрезом, которые биллиардные игроки покупали для местных девок у приезжих спекулянтов. Его не занимали бутылки дорогого шампанского «Абрау» и золотистые жирные балыки в витринах магазинов. Он наблюдал за двухлетками в киевском детском саду пани Перетяткович, записывал их психологические особенности, задумывался о том, «как сохранить от гибели интересный и совершенно неизученный язык – язык детского повествования»{169}. Писал о волнующих баталиях за власть и авторитет, которые разыгрывались между детьми: Хельцей, Ханечкой, Нини и Юреком; о нападениях, героической обороне, капитуляции, отчаянии. Напряжение этих сцен он сравнивал с накалом страстей в драмах Шекспира и Софокла.
Он плакал от тоски по Польше над потрохами по-варшавски в киевской столовой. Пытался добиться у ежеминутно меняющихся киевских властей разрешения уехать в Варшаву. Подписание Брестского мира положило конец русско-немецкой войне. Толпы беженцев хотели вернуться в Польшу. Но транспортное сообщение начало налаживаться только в июне 1918 года.
В июне 1918 доктор Гольдшмит с небольшим багажом, основную часть которого составляли исписанные тетрадки – среди них и военный дневник, не сохранившийся до наших дней, – вышел из поезда на Петербургском вокзале в польской столице. Где-то месяцем раньше приехал доктор Исаак Элиасберг, также демобилизовавшийся. На следующий день оба пришли на Крохмальную. Во дворе Дома сирот стояли дети, опрятные, празднично одетые. Некоторые смутно помнили Доктора. Для других он был только легендой. Они не знали, кто из двоих – «Наш Доктор». Этот веселый, уверенный в себе, который так бодро расцеловал панну Стефу в обе щеки? Или второй, неприметный, лысый, с рыжеватой щетиной, в круглых очках с проволочной оправой, который несмело улыбается? Только когда тот второй пожал руку панне Стефе, а она, всегда такая пылкая, застыла и не могла вымолвить ни слова, – стало понятно, что ждали именно его.
«Как добежали – прижимались, льнули, когда я вернулся с войны», – писал он. В этих словах слышна глубокая нежность. И тут же защищается насмешкой, чтоб его не заподозрили в мягкосердечии. «Но разве они бы не больше обрадовались, если бы в комнате появились неожиданно – белые мыши или морские свинки?»{170}
Он не выносил проявления чувств. Может, не умел их выражать? Трудно представить себе его разговор с панной Стефой, когда они наконец остались одни. Должно быть, он уже знал о смерти Эстерки. Позволил ли он приемной матери девочки выплакаться? В соответствии с духом эпохи Корчак считал, что жалость к себе не помогает, а, напротив, выводит из равновесия. Может, он хотя бы похвалил Вильчинскую за дельную работу в течение четырех лет войны? Вероятно, считал это нормальным. Рассказывал ли он о своих мытарствах? Страхе? Тоске? Не думаю. Скорее, он сразу перешел к текущим делам. Каким ужасным сейчас видится одиночество двоих людей, живших так близко друг от друга, а вместе с тем так далеко…