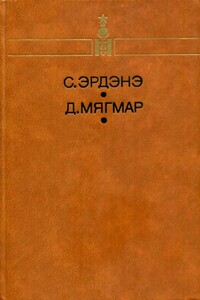Избранное | страница 21
Дамдин каждое утро уходил из дома и возвращался на закате солнца. Вот и сегодня, кажется, вернулся вовремя.
Должин несколько удивилась тому, что сын пришел такой веселый. Наливая ему чай и угощая гостинцами, которые привез Цокзол, она осторожно поинтересовалась:
— Что случилось, сынок?
— Наверное, в аймак поеду… И самое главное, на машине, говорят.
— А что там будешь делать?
— По делам художественной самодеятельности…
Сердце у Должин замерло, и она только успела подумать: «Вот оно что. Вот почему, оказывается, сын у меня зачастил в сомон. Неужели же он решится оставить старую мать и уехать так далеко?»
Затем она спросила:
— А ты, сынок, умеешь петь или играть на хуре?
Дамдин, с аппетитом попивая чай, лукаво посмотрел на мать и, громко расхохотавшись, ответил:
— Петь-то я могу, но меня не пускают на сцену. Как-то я вызвался спеть что-нибудь, но все отмолчались… Теперь-то уж точно не выгонят… Буду грузить и сгружать нашим артистам инструменты, одежду, поднимать и опускать занавес.
Мать больше ничего не сказала. Аймачный центр ей казался краем света, и у нее все внутри оборвалось. Ей никак не хотелось верить, что сын может так далеко уехать, оставив ее.
Затем она, разжигая очаг, стала пристально глядеть на огонь. И вдруг пламя ей показалось слегка волнующимся шелковым занавесом… Потом в нем привиделось лицо сына, и Должин радостно улыбнулась. Но стоило ей вспомнить народную мудрость: мысли матери — о детях, мысли детей — о горах, как снова стало ей не по себе, и она сказала:
— Приезжал Цокзол-гуай. Приглашает тебя к себе.
— Вернусь из аймака, тогда и съезжу, — небрежно бросил он, но потом, словно опомнившись, вскочил, подбежал к сундуку и добавил: — Надо бы собраться.
«Что же это такое происходит? Как-то странно все, непонятно… Значит, правду говорят, что на людях человек меняется! Вот тебе и Красный уголок… Значит, он давно решил меня оставить, а я что? Буду смотреть на дорогу, ждать его и скучать, не находя себе места… Выходит, так?» — думала Должин.
Затем она глубоко вздохнула, и ей захотелось заплакать. Еще некоторое время она сидела молча и неподвижно, потом встала, покрутила несколько раз молитвенный цилиндр и начала молиться.
Больше они ни о чем важном не говорили. Разговор не клеился. Дамдин собирал вещи и напевал себе под нос какую-то мелодию. Должин же смотрела на сына и думала: «Значит, вовсе не случайно подергивалось у меня нижнее веко. К слезам, видать…» Множество всяких мыслей вертелось у нее в голове. Сын все еще казался ей маленьким, и отпускать его от себя было очень тяжело.