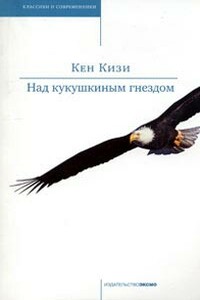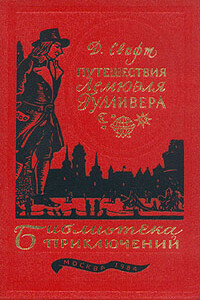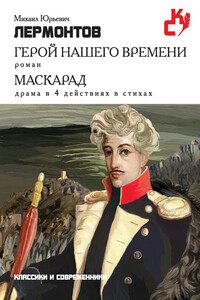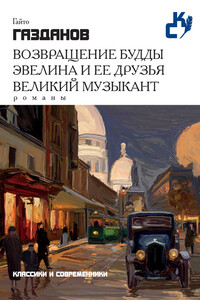Стихотворения и поэмы | страница 2
(Перев. С. Маршака)
Байрон в эпиграмме повторяет то, о чем ему горячо писал Шелли, убежденный, что смерть Китса — на совести критиков. Байрон по этому поводу не упустил случая еще раз посчитаться с английскими журналами, но все же недоумевал — неужели отзыв рецензента, пусть несправедливый и жестокий, может оказаться смертельным? Он может привести в бешенство, заставить ответить ударом на удар — это в характере Байрона. У Китса был иной характер и иной склад таланта. Настолько иной, что Байрон не ценил его совершенно, в переписке с друзьями не стеснял себя в выражениях и, лишь узнав о смерти Китса, дал указание своему издателю не допускать этих отзывов в печать.
Отношение Китса к тому, кто тогда царил на английском романтическом Парнасе, было более благожелательным, по крайней мере вначале. А если судить по раннему сонету, к Байрону обращенному, то в какой-то момент даже восторженным. Однако имя Байрона не слишком бросается в глаза, ибо является в окружении стихов, посвященных или обращенных к другим поэтам. Среди них есть имена, обладавшие для Китса куда более устойчивой притягательностью. Прежде всего имя Спенсера.
Давно и прочно считающийся классиком, поэт XVI века Эдмунд Спенсер в романтическую эпоху особенно популярен. Свое подражание ему (первое известное нам стихотворение) Ките пишет знаменитой Спенсеровой строфой[1], которой незадолго до него воспользовался Роберт Бёрнс («Субботний вечер поселянина») и — с таким громадным успехом — Байрон в «Паломничестве Чайльд-Гарольда».
Строфическая форма с течением времени стала вместилищем всех ассоциаций, связанных с именем ее создателя, который более всего запомнился как мастер поэтической стилизации: куртуазно-рыцарской в аллегорической поэме «Королева фей» и архаизирующе-просторечной в пасторальном «Календаре пастуха». Ките тоже любит отраженный свет в слове. Видимый или воображаемый предмет всегда будит в нем поэтические воспоминания, окутывается в них. Природа и Поэзия для него — равновеликие реальности, и он не умеет писать о первой, забывая о том, как она уже отражена во второй.
Английский читатель Китса ощущает эту его склонность иначе, чем читатель переводов: в оригинале зависимость очевиднее, конкретнее, как очевиднее и тот факт, что Ките, в отличие от робкого подражателя, не боится быть пойманным на заимствованиях. Он заимствует открыто, ибо чувствует в себе силу рядом с чужим поставить свое слово, отзывающееся, вступающее в перекличку. В «Подражании Спенсеру», естественно, повторяются его стилистические приемы, «спен-серизмы», с которыми что поделать переводчику? Разве что передать их неким условным, ничьим персонально, налетом языковой архаики.