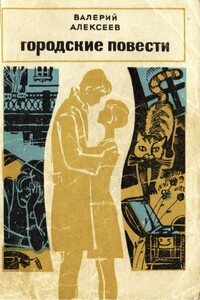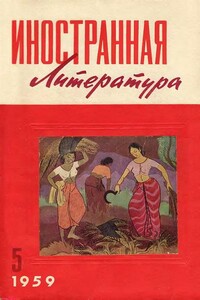Игры на асфальте | страница 16
Короче, Женька заговорил со мной первый.
— Гриня? Я спрашиваю, Гриня тебя зовут?
— Ага, — ответил я.
— Ну, че стоишь? В штандр будешь?
Штандр я считал девчоночьей игрой и потому промедлил с ответом.
— Да он не умеет, — сказал Толец, белобрысый, худой и длинноносый, с бледными голубыми глазами и маленьким ротиком-ижицей. — Он из дярёвни.
— Сам ты из дярёвни! — обиженно возразил я. — Я коренной москвич!
Фраза эта была не самой умной, но что поделаешь? Обижаясь, мы все становимся глуповаты.
— Ах, коренной! — передразнил меня Женька, и оба они засмеялись.
Мы рассчитались, начали, и по неопытности я проиграл.
— Ща женить тебя будем, — деловито сказал Толец, и, обняв друг друга за плечи, мои новые знакомцы двинулись в ту сторону, где на скамеечке возле подворотни чинно сидели девчонки.
В панике я оглянулся: ведь женят, чего доброго, а я-то с ними играл, старался, как чудак. Спасение одно — уходить.
И я ушел. Мама, возившаяся с Максимкой, недовольна была, что я так быстро вернулся, вздохнула сокрушенно, но ничего не сказала. Она за меня огорчалась: там, за заставой, меня было с улицы домой не загнать, а здесь я сидел дома, «как запечник». Разве мог я ей объяснить, как пахнет сырой вечерний бурьян нашей окраины возле свалки строительного мусора… Уж во всяком случае, он пахнет не гудроном и пылью. Я начал торопливо снимать пальто, но тут в дверь позвонили.
— Ты чего? Выходи! — сказал Женька.
— А вы его не обидели? — спросила, выглядывая в прихожую, догадливая мама.
— Да не, ну что вы! — пробормотал Женька, изображая на своем кошачьем личике изумленное простодушие.
И я был выставлен во двор на расправу.
Оказалось, «женить» — это не совсем то, что я думал (а что я думал — и сам не знаю): «женить» по-здешнему означало подобрать кличку, причем всего лишь на время игры. Бывало, впрочем, что кличка и прилипала, если оказывалась удачной. Но за моим прозвищем Толец и Женька не стали далеко ходить. Толец, посмеиваясь, сообщил мне, что меня будут звать «Коренной». Я уже сообразил, что сморозил глупость, и стал протестовать.
— Ох ы! — сказал Толец, оглядывая меня с прищуром. — Коренной, да еще и брыкается. Что ж тебя, высочеством называть?
— А хоть бы и высочеством, — ответил я.
И меня прозвали «Маркизом». Кличка эта, однако, не привилась. В школе меня дразнили «Во-первых — во-вторых» — за манеру раскладывать все по полочкам, а во дворе я проходил как Кузя или Гриня, иногда Кузнец.
Кстати, у Тольца фамилия была Нудный. Мне всегда казалось замечательным это явление: наверное, нужно немалое мужество, чтобы передавать такую фамилию от отца к сыну и даже гордиться ею, как гордился Толец. Никто не смел дразнить его фамилией: стоило только Нудному посмотреть на насмешника, как улыбочки сразу же исчезали. Толец, несмотря на худобу, был очень сильным от природы человеком — не руки, а рычаги, не пальцы, а пассатижи, лет через пять после описываемых событий он стал грозою двора, и все прочили ему уголовное будущее, но неожиданно в нем что-то переломилось, и сейчас он солидный «ответственный работник», и фамилия «Нудный» стала звучать очень и очень солидно.