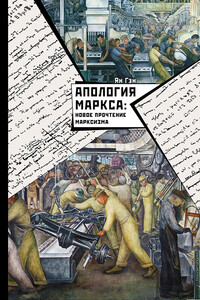Философская традиция во Франции. Классический век и его самосознание | страница 76
Вместе с тем, картезианская школа не была каким-то целостным институтом с выраженным лидерством и членством. Декартова философия, подобно упавшему в воду камню, стала центром, от которого расходились круги, порой вполне отчетливые, а порой едва различимые на волнующейся поверхности потока французской интеллектуальной жизни. В XVII в. эта жизнь еще была по преимуществу католической. Католицизм, религия не только неграмотных крестьян и полуграмотных сельских кюре, но и столичных интеллектуалов, был той самой средой, в которой картезианству предстояло прижиться. После Декарта в среде образованных католиков историки философии ясно видят два основных направления – картезианство и антикартезианство[215].
Хотя нигде в текстах Декарта мы не встречаем ясно выраженного учения о двух субстанциях, основным содержанием картезианской философии, усвоенной многочисленными последователями и по сию пору являющимся коллективным бессознательным западной цивилизации, стал разрыв между материей и деятельностью мысли, который надлежит заполнить теорией познания[216].
Учение Декарта породило многочисленные волны, подобно тому как камень оставляет круги на воде. Прежде всего, оно оказало сильнейшее влияние на богословскую мысль.
Не существовало картезианского сенсуализма и материализма, – писал К. Фишер, – но существовало картезианское богословие, и должна была иметь право существовать даже аристотелевско-картезианская философия природы. При этом учение Декарта выигрывало в авторитетности и ничего не теряло в своем значении. Ибо основные его положения сохранялись в прежнем виде, а противоположные воззрения приспосабливались к ним посредством соответствующего их истолкования. Так картезиански объяснялась Библия, чтобы учение Декарта казалось библейским, и так же картезиански принуждали мыслить Аристотеля, чтобы наложить отпечаток аристотелизма на учение Декарта и устранить предубеждение, которое испытывала против этого учения старая медицинская школа[217].
Но все это были компромиссы, ибо, по точному выражению Вольтера, «дух геометрии, так сильно распространившийся в Европе, окончательно уронил богословие»[218]. Во всяком случае, богословие больше не было госпожой, за которой робко следовала ее служанка философия; напротив, теперь богословию приходилось поспевать за философией, и в этом отношении революционизирующая роль картезианства не вызывает сомнения.
Картезианство стало коллективным бессознательным второй половины XVII – начала XVIII в. Его в конце концов приняли даже самые ярые противники – Церковь и Университет. «В Европе были лишь два философа (все остальные пришлись на долю Греции), – писал П. Шоню, – Декарт и Гегель, тот и другой впереди мира. Только они были способны охватить и преодолеть противоречия. Вот почему есть левые гегельянцы и правые гегельянцы, так же как есть левые картезианцы и правые картезианцы: Спиноза и Мальбранш. Нет, Спиноза и неоавгустинианство теоцентриков католической реформации. Не случайно все то, что неудачно называют чянсенизмом, иначе говоря, просто все значимое в католической мысли XVII столетия является, с философской точки зрения, картезианством»