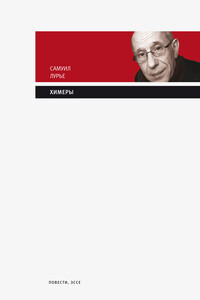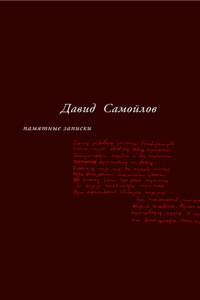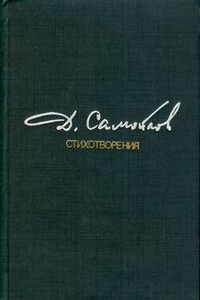Ранний Самойлов: Дневниковые записи и стихи: 1934 – начало 1950-х | страница 28
В 1940 году мы начали действовать. Государство не знало нас. Мы предлагали ему себя. Мы гордо назвали всех наших поколением сорокового года. Это дата нашего вступления в жизнь. Мы начали штурмовать литературу. В этот труднейший и прекраснейший год нашей жизни многие из друзей ушли на войну. Наше поколение впервые узнало ужас боя и прелесть воспоминания о нем. С этой войны не вернулся юноша Миша Молочко. Друзья уже создали легенду о нем. Мы вспомнили его фразу: «Романтика – это та будущая война, в которой победим мы». Мы стали суровы и строги друг к другу. Для нас осталась единственная романтика – победить.
Я небрежно и торопливо набрасываю эти строки. Я еще не умею писать прозой. Мои фразы не приструганы друг к другу. Выражением нашего времени были стихи. Нас тянуло к эпосу, но у нас не было эпопеи. Гражданская война – это наши отцы. Пятилетка – наши старшие братья. Отечественная война сорок первого года – это мы.
Все три эпохи имели свои недостатки. Отцы пришли в социализм, полные идеальных схем. Они пробовали проводить их в жизнь. Появилось множество измов. Конструктивизм, футуризм, имажинизм. После многие поняли, что это нереально, что жизнь исправляет схемы, что правда одна для всех. Они ощупью искали путей к ней. Они придумали ей название: социалистический реализм. Но ни они, ни последующее поколение не умели его осуществить. В результате пострадали мы: наши головы были забиты идеальными рецептами жизни и реющим над ними общим правилом: все относительно. Мы искали того, что Гегель называет конкретной истиной. Война сорок первого года прервала эти поиски. Люди нашего поколения разными путями пришли к одному: все на фронт. Здесь были герои, трусы и обыкновенные люди. Никто не отрекся от войны.
Если мне придется когда-нибудь писать, я напишу о том, как категория долга стала для нас господствующей. Это единственное чувство, которое следует внушать людям с пеленок: долг.
Наши братья уже знали, что это такое. Но они были детьми реконструкции. Они героически трудились. Они создали себе памятник: город Комсомольск. Этот памятник был результатом прекрасной прямоты мыслей. Но он же был свидетельством их односторонности. Они переделывали себя, как переделывают вещи. Они верили в конкретное. Им нравилась «Шапка»[80] Безыменского. И мы, сопливые скептики, тогда не понимали их, как позже они не захотели понять нас. ‹…› А поэты старших братьев учили: коммунизм – это каждая мелочь. Я помню напечатанные в журнале стихи о катетерах. Эти поэты привыкли к мелочам. Они писали о них уже без вдохновения. Позднее мы вычитали или придумали теорию штампа. В ней было оправдание этой мелочности. Штамп показался нам началом возрождения, как песни провансальских трубадуров…