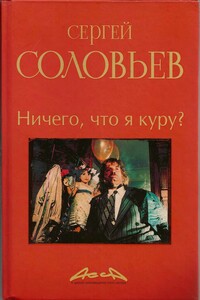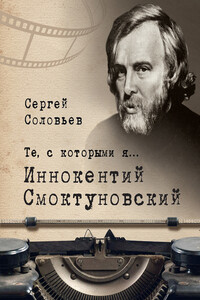Асса и другие произведения этого автора. Книга 1. Начало. То да сё… | страница 82
Фото — Булат Окуджава
И вот тогда, когда в той самой неведомой черной дыре экспериментального омута булькнула и, как я понял, навеки потонула моя «Солома», мне стало ясно, что, видимо, пришел момент «вытаскивать в люди» того мужика, и отважно поведал Гуревичу о внезапно явившемся в измученной голове крутейшем замысле мюзикла на стихи-песни Окуджавы под названием «Вера, Надежда, Любовь». Леня выслушал предложение, сказал, что это именно то, что необходимо сейчас и студии, и чухраевскому эксперименту, и всему нашему и не нашему кино.
— Это будет мюзикл?
— Мюзикл, мюзикл. Диалог там вообще не нужен — будут только петь…
Идея свалилась на меня сразу как озарение. Если «Солома волос» сочинялась лет пять, каждая строчка давалась потом и кровью, то здесь все придумалось вмиг. Это должна была быть история одной семьи: мать — Вера, дочь — Надежда, внучка — Любовь. История трех женщин, трех времен: Гражданская война, потом Отечественная, и в последней новелле — уже наши дни. Все точно сходилось по датам, по судьбам, по всему тому, что в принципе нужно для хорошего кино.
Леня был в редакторской эйфории. Свалившийся на меня с неба сюжет мне тоже страшно нравился. Вся история семьи ловко разворачивалась в одном доме, где-то под Ленинградом, вернее на его окраине, где-то в районе зеленого Елагина острова — каменный дом стоял на отшибе, в траве у реки. Сначала вблизи находился аэродром, откуда в Гражданскую взлетали «этажерки», и у одного из пилотов был роман с Верой. Однажды летчик не вернулся с вылета. Но родилась дочь, Надежда. В Отечественную возле того же дома, где по-прежнему жила уже выросшая дочь, стояла батарея зениток, у Надежды завязался роман с мальчиком-зенитчиком, но потом и его круглый затылок ушел куда-то в грохочущую смерть. И третья новелла тоже была о любви. А из всех трех складывалась довольно трогательная история про нашу историю, но не официозную, а человеческую, душевную, что ли — во всяком случае, историю про людей и для людей.
— Писать? — спросил я у Гуревича.
— Немедленно.
— Я ведь с Окуджавой должен писать. Звонить ему?
— Звони…
Легко было сказать. С Окуджавой я знаком так и не был. Только по телевизору. Но набрался нахальства. Позвонил. Представился. Изложил суть.
— Хорошо, давайте повидаемся, — услышал в ответ знакомый голос.
Трепеща, я потащился через весь город к Речному вокзалу, где он тогда жил. И хотя вроде это я выводил его в люди, чувствовал отчего-то противоположное — меня предательски колотила довольно-таки рабская дрожь. Нельзя же было, ей-богу, не ощущать, что Булат — это настоящее, большое событие не только, допустим, в жизни моей или даже моего поколения, но и во всей русской культуре. Фет, Аполлон Григорьев, Иннокентий Анненский, Случевский, Кузмин, Булат… Вот с такой странной смесью молодой наглости, старого намерения все-таки «выводить его в люди» и предательского ученического трепета я впервые входил к нему в дом.