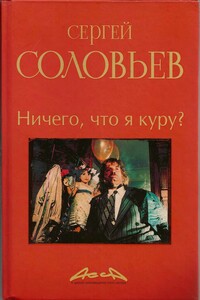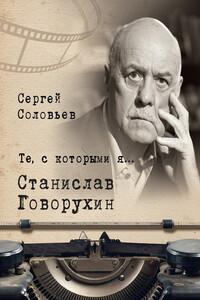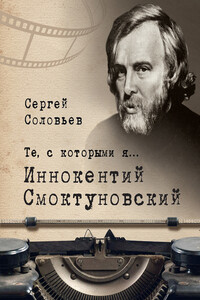Асса и другие произведения этого автора. Книга 1. Начало. То да сё… | страница 36
На газоне шумели дети, плакали голые малыши в колясочках. У большой бочки с квасом толпился народ. Разливала квас тетка в нечистом халате, возле нее стоял парень в сандалиях на босу ногу, в синих подвернутых тренировочных шароварах, голый по пояс. Грозным, хотя и красивым, хорошо поставленным голосом, выразительно вращая глазами, он говорил, обращаясь к продавщице, но одновременно беря в свидетели и очередь:
— Ай-ай-ай, за жалкую кружку кваса тебе дают в залог комсомольский билет! А ты его брать не хочешь! Комсомольский билет! Тебе не стыдно? Совесть у тебя есть?
Монолог этот произвел на меня впечатление. У продавщицы совести не оказалось, комсомольский билет она не взяла, но кружку кваса отцедила. Какая-то интуиция подстегнула меня, я обратился к полуголому атлету:
— Не скажите, как пройти к общежитию ВГИКа?
— Пойдем вместе. Я там живу…
Так я познакомился с будущим последним министром культуры Союза ССР, замечательным актером и режиссером Николаем Николаевичем Губенко…
На первом экзамене Ромма не было — экзамен принимал Лев Владимирович Кулешов.
Это само по себе было страшно: про него говорили, что в молодости он вообще изобрел кинематографический монтаж. Кулешов попросил меня почему-то рассказать ему, как я представляю «детский сад летом». «Где — в городе или в деревне?» — опешил я, а Кулешов пожал плечами: «Ну, пусть будет в городе». Срывающимся голосом я изложил такую картину: мол, раскаленный, полопавшийся асфальт, пересохший фонтан, из которого не брызжет вода, и черная кошка, расхаживающая по бетонному кругу около фонтана. «А где дети?» — спросил Кулешов. «Нету детей, — ответил я. — Жара, пылища. Их увели куда-нибудь в тень». — «До свидания», — сказал Кулешов без всякого восторга, но и без осуждения, и мы мирно с ним расстались. Я был убежден в том, что экзамен я провалил, однако карандашная по-черкуха Ромма делала свое дело — мне велели прийти на письменную работу.
К ней оставили нас ровно столько, сколько могли напихать в самую большую вгиковскую аудиторию — не то шестьдесят, не то семьдесят претендентов. Главный экзаменатор (как я потом узнал, это был Евгений Николаевич Фосс, очень славный человек и хороший педагог, ученик Эйзенштейна) предложил нам для написания тему: «Встреча на дороге или в поезде, при которой самый главный разговор не смог состояться». На написание всего этого давалось шесть часов.
Первые два из них я провел в каком-то сумеречном и удушливом бреду сочинительства. Сюжеты, упорно лезшие в голову, были ужасающи, но избавиться от них никак не удавалось. Помню, все мерещился почему-то какой-то однорукий фронтовик-циркач, который что-то демонстрировал на трапеции в уездном городе (именно так я думал — не в районном, не в провинциальном, а почему-то именно в уездном), где вдруг его узнавала любимая девушка, по случайности оказавшаяся среди публики. Я до сих пор помню вязкую тяжесть этого тяжелого, навязчивого кошмара. Одновременно помню и ясное понимание того, что ничего, кроме стыда, этот сюжет мне не принесет; никогда я не знал ни циркачей, ни цирка, в уездных городах не бывал, и каким образом все это втемяшилось мне в голову, да еще в такой ответственный момент, я не мог себе представить и ощущал позорное бессилие сойти с этого гибельного пути. После двух часов изнурительной борьбы с самим собой и с одноруким циркачем, я отпросился покурить, и вдруг на лестнице все мгновенно сообразилось, будто бы даже помимо моих мозговых усилий.