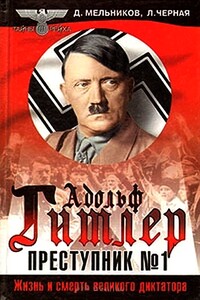Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего | страница 35
К нам в Москве Вицлебен не приходил — не до нас было. Однако когда мы приезжали в ГДР, то первым делом звонили ему. То же самое делала и я, если, хотя и изредка, приезжала одна. И добряк Вицлебен приглашал меня или нас с Д. Е. в кафе, а еще чаще — в Потсдам, посидеть у него в живописном садике. Его домик принадлежал ансамблю парка Сан-Суси, где находится королевский дворец Фридриха Великого — так называемый прусский Версаль. Помню, что, когда я входила в этот домик к Вицлебену, у меня дух захватывало от красоты его убранства. На стенах висели старинные гравюры, а на каминной полке стояли средневековые оловянные тарелки. Однажды Вицлебен пригласил нас не то на второй этаж, не то в мезонин своего жилища и познакомил с женой — венгерской графиней. Супруги рассказали нам с мужем, что они боятся и каминов, и печек — словом, открытого огня, а центральное отопление нарушит ауру этого дома — произведения искусства. В результате они обогревали все помещение с помощью электричества. Не помню, чем они нас угощали, но помню, что Д. Е. потребовал, чтобы жена Вицлебена предоставила ему электроприбор, на котором он вскипятил бы чай по способу Похлебкина[11].
Естественно, большой белый чайник, который графиня Вицлебен дала моему мужу, Д. Е. тут же расколотил. Хорошо, что она успокоила меня, сказав, что чайник был самым обычным, купленным в магазине, в отличие от всей остальной старинной посуды, на которой нас угощали Вицлебены.
Как только ГДР, где был Потсдам, воссоединили с Западной Германией, Вицлебенов тут же выселили из Потсдама, по слухам, обвинив чуть ли не в том, что они варварски использовали маленький домик-шедевр, принадлежавший ансамблю дворца Фридриха Великого. Для нас с Д. Е. Вицлебен был навеки потерян, и никаких возможностей узнать о его дальнейшей судьбе у нас не было. Очень грустно.
В ФРГ, куда начали пускать советских граждан только при Горбачеве, у нас было еще больше знакомых, чем в ГДР. Там нас привечали старушки с графскими титулами — вдовы участников заговора против Гитлера, о которых Д. Е. написал свою кандидатскую диссертацию в далекие послевоенные времена.
Главным нашим другом там стала Евангелическая академия — довольно непонятное для нас, совков, заведение. Члены этой академии — протестанты — не признавали обрядность. Проповеди произносились зимой с кафедр, вокруг которых бегали малые дети, а летом — просто на свежем воздухе, где прихожане то приходили, то уходили и где также резвились ребятишки. На этих молитвенных собраниях присутствовал самый разный люд — от молодых поэтов, мелких служащих и студентов с крашенными во все цвета радуги шевелюрами до коммивояжеров в солидных костюмах. Часто свои коллоквиумы Академия собирала в деревнях и приглашала нас с Д. Е. В деревнях жили и ее пастыри. С одной такой пасторской семьей я подружилась. Название деревни, где они обитали в скромном коттедже, не помню. Помню только, что этот коттедж находился рядом с бывшим помещичьим домом с мраморной лестницей. В том доме жили… старушки, по-нашему, престарелые. Старушки порхали по всей лужайке перед роскошным своим домом, но на моления не ходили. Зато устроили рядом буфет, где продавали пирожные. Туда не ходили мы с Д. Е., ибо немецкие пирожные предельно невкусные — они из сладкого творога, которого я терпеть не могу (творожники умеет делать только моя помощница Лена).