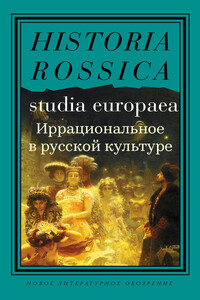Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914 | страница 15
Подобное подчеркивание идеи нравственного совершенствования, упражнения в добродетели и образования не является спецификой масонских лож, это общая черта европейского Просвещения, которая стала движущей силой бума социального общения с середины XVIII века. Просветители, враги конфликтов и вражды, энтузиасты гармонии и легкости, ждали от sociabilité (французский термин появился лишь в начале столетия) синтеза своего и чужого, разума и чувства, нравственности и экономики, причем не подвергая фундаментальному сомнению политический строй[42]. Так, английский просветитель Уильям Хаттон писал: «Человек безусловно создан для общества: сообщение одного с другим, как трение двух блоков мрамора друг с другом, уменьшает грубые неровности поведения и сглаживает манеры». «Образование, культура и просвещение» и для Мозеса Мендельсона представляли собой лишь «модификации общественного обхождения, результат старания и усилий людей улучшить их общественное состояние»[43]. Особенно шотландские просветители – такие, как Адам Смит, которого жадно читали в Европе, – полагали, что в мире, который все больше кажется искусственным, эгоистичным и раздробленным, социальное общение представляет собой один – если не единственный – из ключей к политической добродетели и тем самым к лучшему обществу. «А хранитель нравственности – общество, а не некий нравственный законодатель. После Смита большинство практикующих шотландских идеалистов принимало тот факт, что нравственность проистекает из врожденного чувства, а не из абстрактной логики или рассудка, и – это еще важнее – что и публичная, и частная добродетель основывается на общении низового уровня, кажущемся тривиальным»[44]. Притяжение социального общения для политической мысли европейских просветителей объясняется также их убеждением, что следующее лишь рассудку определение природы человека односторонне. Просвещение несло с собой собственную самокритику.
К «страсти объединяться» (rage de s’associer) присоединилось другое популярное словечко эпохи: «страсть чтения» (Lesesucht). Культура объединений и культура социального общения составляли историческую пару близнецов. В публичных пространствах «социальное общение» встречало самое себя[45]. Потребность в образовании и обсуждении, выходящих за пределы собственного горизонта, вела к образованию кружков и кабинетов чтения. И они также появились впервые в Англии в начале XVIII века, а с середины столетия быстро распространились и в континентальной Европе, особенно во Франции и немецких землях, параллельно с захватывавшими дух темпами прироста книжной продукции. Английский путешественник описывал в 1788 году такие места, в которых можно было читать книги, необязательно их покупая: «Распространенное в торговых городах Франции заведение, которое пользуется особенным успехом в Нанте – chambre de lecture, кабинет чтения, который можно сравнить с нашим книжным клубом (book club). Он из трех зал: в первом можно читать, в следующем разговаривать, а в третьем располагается библиотека. Зимой они отапливаются большими печами, везде свечи»