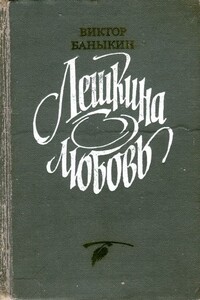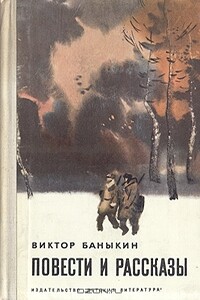Ранняя осень | страница 37
Откинувшись на спинку стула, рассказчик добродушно хохотнул. Осклабились и сидевшие за столом мужики. Они были рады-радешеньки бывалому человеку в этот куда как невеселенький нудно-дождливый вечер с бесконечно однообразными шлюзованиями теплохода.
Гордей слегка отстранил от себя альбом: по-молодецки вскинутая голова с шапкой густых, вьющихся волос, массивный лоб с еле приметными ниточками морщин, выпуклые, по-мальчишески отчаянно-дерзкие глаза. Складки помятого пиджака наскоро намечены несколькими скупыми жирными линиями.
Захлопнув альбом, художник распушил бороду. Насмешливо, с издевкой спросил себя: «На ужин, Гордей, заработал? Пятерку бы дал балагур за твой набросок? Или пожалел?»
У стола остановился, слегка сутулясь, щуплый, чистенький старичок с розовым плоским лицом. По модной, из черной искусственной кожи куртке вились тонюсенькие пряди редкой рыжей бороденки.
«Тип тоже презанятный!» — отметил про себя художник, пряча альбом в карман.
— Ты что, сын божий, на меня воззрился? — благодушно, с усмешечкой, спросил Гордея старец.
— Любуюсь вашей бородой.
— Уж такой господь наградил. И не ропщу на всевышнего, — старик крякнул, усаживаясь напротив художника.
— Что заказывать будете? — осипшим до шепота голосом заговорила подбежавшая буфетчица, обращаясь к престарелому моднику.
— Мне, к примеру, бутылку «Боржома», — начал было старик, но девица перебила его:
— Только — «Нарзан».
— Тогда единицу «Нарзана», селедочку на закуску, яичницу глазунью, сто пятьдесят «Столичной» и три стакана чаю. Горячего и крепкого.
— Это уж какой будет! — просипела все так же отрывисто и равнодушно неулыбчивая буфетчица. Постукивая шариковой ручкой по растрепанному блокноту, строго посмотрела на художника. — А вам, гражданин?
— А мне дайте меню, — сказал Гордей как можно спокойней. — И пока вы ходите к нетерпеливому клиенту… слышите, как он в том конце надрывается?.. я за это время что-то себе и выберу.
В самом начале знакомства, когда Гордей и тщедушного вида сосед его чокались рюмками, старика окликнул большеплечий головастый детина:
— Ба-а, ты уже здесь, ржавая церковная гайка? Экий прыткий! Улепетнул один, а меня не прихватил!
— Да ведь ты, дубовая башка, дрыхнул, храпя яко вепрь! — усмехнулся старик. — Ну, а коли заявился, примащивайся, место и для тебя имеется.
Парень сел, протянул художнику ручищу — шершавую, заскорузлую, с окостеневшими мозолями.
— Микола! — и морковного цвета губы его растянулись в улыбке от уха до уха. Большие же, по-телячьи ласковые васильковые глаза смешно как-то щурились, будто глядели на солнце.