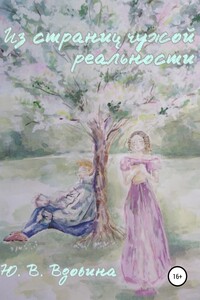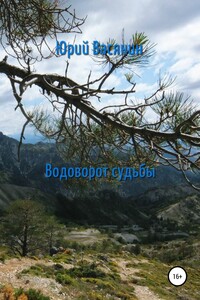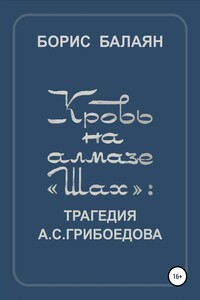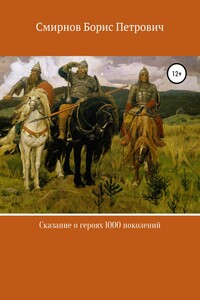Долина павших | страница 5
В «Сне о Сараево» Карлос Рохас обозначает цель своего романного творчества как «тяжбу с историей». Действительно, это тяжба, расследование, своего рода судебное рассмотрение. Все фантастические предположения, сближения и смешения эпох, якобы подслушанные монологи, несуществующие дневники, несостоявшиеся встречи исторических лиц нужны автору для того, чтобы доступными художнику средствами заставить историю самораскрыться, заставить настоящее и прошлое объяснять друг друга. Задача чрезвычайно сложная, и не всегда она поддается романисту. Рохас и сам это понимает. Никакой критик не мог бы строже и беспристрастнее оценить произведение, чем это сделал автор в эпилоге романа «Мой фюрер, мой фюрер!». Писатель признает, что, не учитывая экономические факторы, нельзя понять исторический процесс. Сводя социальные катаклизмы к загадкам индивидуальной психологии (а именно это происходит в романе «Мой фюрер, мой фюрер!», где навязанная миру гитлеризмом трагедия объясняется чудовищной извращенностью личности Гитлера), рискуешь, по словам Рохаса, написать «всего-навсего романчик в стиле политической фантастики на потребу обществу потребления».
«Долина павших» (1978) — пожалуй, один из самых удачных романов Рохаса. Здесь соблюден исторический такт: романист остается в сфере доступных ему проблем социальной психологии и культуры, не упрощает истории, ибо говорит не столько о глубинных причинах эпохальных событий: кризиса испанской монархии в конце XVIII в., антинаполеоновской войны, первых буржуазных революций в Испании XIX в., гражданской войны 1936–1939 гг., установления и крушения через тридцать шесть лет франкистской диктатуры, — сколько о нравственных последствиях этих событий и их восприятии испанской художественной культурой. Избранные романистом персонажи соразмерны проблематике романа. Да и сюжетный ход, позволяющий осуществить «стыковку» прошлого и настоящего, вполне правдоподобен и психологически убедителен. Писатель пишет биографию великого художника — естественно, что, беспрестанно обдумывая собранные им из разных источников факты, он так вживается в материал, что чувствует нечто вроде перевоплощения — без этого, наверное, никакой книги не напишешь. Сандро замыслил биографию Гойи, одновременно и научную и романизированную. Сейчас таким сочинениям несть числа: в 1980 г., например, вышел и имел большой читательский успех роман Антонио Ларреты «Они взлетели». Там Гойя и Годой в изгнании объединяются, чтобы расследовать давнишнюю загадку скоропостижной смерти герцогини Альбы: в отравлении они подозревают короля Фернандо, а выясняется, что отравительницей была ревнивая и несчастная жена Годоя герцогиня Чинчон. Все это, разумеется, самый невероятный вымысел, хотя в романе есть сцены, основанные на письмах Гойи, мемуарах Годоя и других документах эпохи. Рохас и его «alter ego» Сандро Васари обращаются с фактами уважительнее: Сандро сочиняет не поступки, но реакции, отношения, разговоры исторических лиц, он пытается вообразить эпизоды, о которых нет точных свидетельств, но которые вполне вероятны в контексте того, что мы знаем из воспоминаний, писем, да и по картинам Гойи. Так, нет документированных свидетельств беседы Гойи с королем Фернандо VII во время кратковременной поездки Гойи на родину из Бордо за два года до смерти. В этот воображаемый разговор вкраплено множество достоверных фактов: отношения Фернандо и его родителей, короля Карла IV и королевы Марии Луисы, ненависть Фернандо к Годою, поведение Гойи во время царствования короля Хосе (Жозефа Бонапарта), зверская расправа Фернандо с партизанским вожаком Эмпесинадо. Ощутима и до сих пор заставляющая историков ломать себе голову над ее объяснением, почтительная симпатия Фернандо, самого вероломного среди испанских монархов, к Гойе. Но, конечно, вся эмоциональная тональность разговора, все исповедальные признания Гойи «домыслены» биографом.