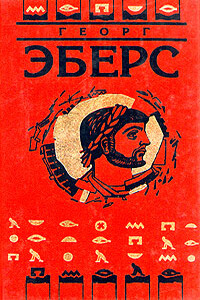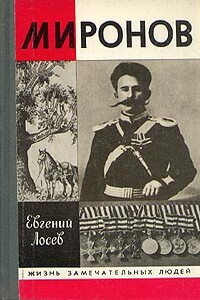Долина павших | страница 11
Это вовсе не значит, что Гойя разочаровался в испанском народе. Ведь в те же годы он пишет своих кузнецов, точильщика, продавщицу воды — поэтическое воплощение народного характера. Да и мог ли Гойя забыть героические, скорбные и трогательные сцены своих «Бедствий войны»? Мог ли он забыть своего повстанца — простолюдина в рваной рубахе, раскинувшего руки навстречу дулам французских ружей? В дни восстания против наполеоновских войск Гойя жил народным порывом. Очевидец майских дней 1808 г. потом писал: «И по прошествии двадцати лет волосы встают дыбом при воспоминании о той мрачной ночи, когда тишину разрывали лишь горестные вскрики несчастных жертв и выстрелы, сотрясавшие воздух и затихающие где-то вдали…»[6] Глухой Гойя не мог слышать крики расстреливаемых и гром выстрелов, но кажется, что звуковые волны сотрясали его душу, так угаданы и переданы на его картине «3 мая 1808 года в Мадриде: расстрел на холме Принца Пия» весь ужас и все величие той ночи: не только горе и отчаяние, о которых пишет мемуарист, но и ярость и презирающее смерть мужество.
Гойя, конечно, не перестал любить свой народ, не перестал видеть в нем могучего гиганта. Но он понял, что между народом и реакцией — всеми этими ослами, демонами, вампирами — существуют сложные и неоднозначные отношения. Не один Гойя понял тогда глубину этого противоречия. Вот что писал Ларра через несколько лет после смерти Гойи: «Это великая сила, имя которой народ. Его обманывают, его попирают ногами, ходят по нему, карабкаются вверх, а он в поте лица своего копает землю и все должен переносить»[7].
Страшная пассивность народа, складывавшаяся веками, и необузданность его стихийных порывов — вот что ужасало и Гойю и Ларру. Но оба они знали, что на «человеке-тверди» (так называл Ларра народ) держится мир. Восстание и партизанская война, две революции и разгул контрреволюционного террора после каждой из них — первые три десятилетия XIX в. в Испании обнажили грозную диалектику истории. Народ был главной проблемой испанских революций. Осознание этой проблемы порождало сгущенный трагизм художественного мировидения: появлялись безумный великан Сатурн, пожирающий детское тельце, полузасыпанная песком собака с тоскующими от страха глазами, драка на дубинках, исходом которой может быть только гибель обоих, — все то, что заставляет зрителя потрясенно остановиться в центре пятьдесят шестого зала Прадо.
Вернемся к Карлосу Рохасу и современной испанской литературе, столь часто обращающейся к личности и творчеству Гойи в поисках ответов на вопросы, поставленные национальной историей. Не один Рохас почувствовал, что в слезливо-верноподданнической истерии, которую своими сообщениями о трогательных изъявлениях горя невинными младенцами и почтенными старцами официальная пресса нагнетала вокруг одра умирающего старика, дабы скрыть необратимый политический распад режима, воплощенного в этом старике, есть нечто от «Капричос» или «Нелепиц». В уже цитированной повести А. Мартинеса Менчена «Сладка и почетна смерть за родину» рассказывается, как в толпе, ожидавшей новостей, разнесся слух, что к постели Франко привезли покрывало с «чудотворного» изваяния Святой девы дель Пилар из Сарагосы: «Трюк с покрывалом опирается на самую почвенную традицию нашего Двора Чудес. И как будто иначе и быть не может, рядом всплывает слово, уже повторявшееся в дни этой бесконечной агонии, — слово „эсперпенто“».