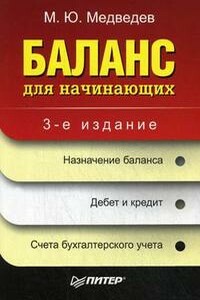Император Павел Первый и Орден св. Иоанна Иерусалимского в России | страница 20
Локализация реформ в отдельных государственных сферах стала принципом реформаторства в XIX в., исключая, быть может, период «великих реформ» 1860–1870-х гг. Так и крестьянская политика Александра I и Николая I не шла дальше «отсечения» отдельных вопиющих проявлений крепостничества (запрещение продажи крестьян на своз) или его «зон» (освобождение крестьян в Прибалтике в 1804–1816 гг.; реформа П. Д. Киселева в государственной деревне). Методология «локализации», заметная и в конституционных экспериментах Александра I, — не что иное, как положительный опыт, извлеченный из павловского образа действий крутыми и повсеместными преобразованиями.
Павел I заложил физические и законодательные основы прочности династии. Законом о престолонаследии 1797 г. был четко определен порядок замещения трона. Отменялся петровский указ о праве самодержца назначать себе преемника по выбору, навсегда исключалось женское правление. Наличие нескольких прямых наследников престола — мужчин, регламентация прав на престол каждого из них, навсегда исключили «замешательство» при воцарении преемников (если не считать ситуации междуцарствия 1825 г., порожденной как раз совершенным Александром отступлением от павловского закона, когда согласно Манифесту 1823 г, трон передавался младшему брату Николаю Павловичу, минуя Константина).
Павловский ритуал царствования был подчеркнуто театрализован и персонифицирован. Тут говорить о преемственности труднее. Однако у Николая I «рыцарственность» жеста и поступка — как государственного, так и личного — также подчеркнута. Подчеркнут и привычный для Павла аскетизм в быту, ставший фамильной гордостью Романовых.
В целом законодательство Павла I во многом предопределило магистральную линию эволюции российского самодержавия в XIX в., хотя и начертанную слишком поспешно. Эта линия заключалась в предельной бюрократизации государственного управления, вытеснении сословных привилегий чиновной иерархией, постепенном урегулировании «сверху» отношений крестьян и землевладельцев.
Разумеется, существует естественноисторический предел живучести павловских традиций. Но было бы опрометчиво считать, что этот предел наступил с «великими реформами», когда общество настойчиво вмешалось в процесс реформирования, отрицая тем самым культ сильной власти как единственно спасительной и деятельной. Правящая чиновная бюрократия с ее естественным навершием в виде всевластного «вождя» еще возродится в российской истории даже и в XX в.