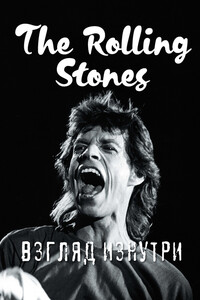Владислав Стржельчик | страница 85
Дульчин в «Последней жертве», Мерич в «Бедной невесте», Телятев в «Бешеных деньгах», Ноздрев... Мастерство Далматова так и искрилось иронией, весь смысл которой именно в переходах, в нюансах, в игре хрустальных граней. Далматов не обладал столь широким диапазоном возможностей, как Самойлов, но внутри воплощаемого им типа он не знал себе равных. В ролях фатов, светских львов, завсегдатаев модных салонов он был неотразим, прославляя актерство на сцене и в жизни, грациозное самолюбование, все красочное и блестящее, что увлекает и пьянит, как бокал шампанского.
Петербуржцы Самойлов и Далматов, москвичи Шумский и Южин — самые крупные величины, корифеи среди апологетов театральности и актерства. Впрочем, нас сейчас интересует специфика именно петербургского актерства, с его холодноватым блеском, который словно бы отражает и эффектность петергофских фонтанов, и сияние царскосельского дворца, и всю, с пристрастием к роскоши, рассчитанную несколько напоказ, эстетику северной столицы. Поскольку актерство Стржельчика, его положительные пленительность и стильность в истоках имеют именно петербургские традиции. Стржельчику не хватает широты натуры, прямодушия, непосредственности, свойственных московской школе, зато у него в избытке ирония. В каждом жесте, взгляде, возгласе его так и чудится какой-нибудь подвох. Все у него пластически закруглено, приукрашено и как бы обведено иронией, как бы с ироническим позументом, что и составляет своеобразие петербургских традиций.
Кажется, летит время, сменяют друг друга эпохи, старые идеи умирают, на их место приходят новые. Но внутреннее ядро традиций, их колорит, различие между актерскими школами, и даже не школами, а способами художественного восприятия жизни, остается неизменным или почти не меняется. Речь здесь, разумеется, идет не обо всем многообразии актерских типов, которые мы видим в современном театре и кино, а лишь об одном типе актера-традиционалиста, актера в буквальном смысле слова. В этой среде актерства, весьма, впрочем, немногочисленного сегодня, продолжают действовать свои законы: москвича с «петербуржцем», во всяком случае, здесь спутать мудрено.
Чтобы покончить с этой географическо-художественной дифференциацией, вспомним сейчас исторические фильмы начала 1950-х годов с непременным москвичом М. Названовым на роли членов царской фамилии. И сравним портреты названовских царей с образами государей-императоров, созданных в 1960-е годы Стржельчиком. У Названова даже мрачный иезуит Николай I (фильмы «Тарас Шевченко», «Композитор Глинка», «Белинский») представлен человеком, как говорится, без задней мысли. У Названова «барство дикое» его героев — это и есть барство дикое: беспечное сочетание аристократической изысканности с хамством, вовсе не утонченным и не изощренным, а живым, плотским, наглым в своей откровенности. Волоокий взгляд из-под припухлых век, пластика, как бы влажная, с ленцой, басовитые тона голоса — здесь игра налицо, идет в открытую. Названов любил театр, поэтизировал актерскую профессию, и все его герои были актерами, в том числе и цари. Но их актерство было лишено того, что французы называют маньеризмом, умышленной позой, рассчитанной эффектностью, вовсе не чуждой Стржельчику.