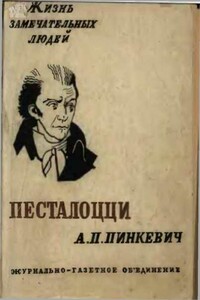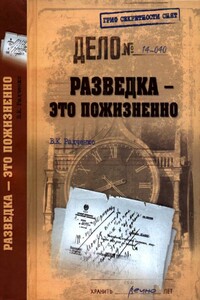Владислав Стржельчик | страница 62
Он прикасается к старым вещам, словно лаская их невзначай. Все эти завитки, выступы на потрескавшейся поверхности дерева для него как морщины на дорогом лице: он знает их наизусть. Старые шифоньеры и шкафы, комоды и столы, они живые, они одухотворены прикосновением его пальцев. И он не может говорить о деньгах, не может назвать спешащему Вику цену — это все равно как определить стоимость своей руки или ноги, стоимость его, Соломона, неожиданно продленной жизни. Да и что вообще такое цена вещей, время которых прошло?
Астматическое дыхание шумно клокочет в гортани. Голос с невероятным усилием, с шипением и свистом прорывается наружу. Да это и не голос уже, голоса уже и не осталось вовсе, осталось лишь болезненное старческое хрипение.
Соломон — Стржельчик медленно кружит по сцене, как бы срезая острые углы предметов. Это кружение скорбно и мучительно. Мучительно той тщательностью, с которой старец пытается сейчас, среди деревянной рухляди, восстановить в памяти гармонию своей истаивающей жизни, свести концы и начала, связать узелки и подсчитать итоги. Он мысленно проживает сейчас минувший век, былые состояния и чувства, осязает их постепенность — рождение, нагнетание и гибель. Сейчас он дорожит и секундой прошедшей жизни, растягивая каждый миг своего бытия, ощущая его процессуально. Именно это ощущение процесса бытия, ощущение родственной связи между всем и вся в мире, когда одно из другого закономерно вытекает, отличает Грегори Соломона от Вика.
Но вот наконец каждая трещинка обследована и все объемы измерены. Можно сунуть в карман пальто уже ненужный сантиметр, и расстегнуть застежки ветхого портфеля, и достать столь ожидаемый Виком задаток. Все это можно сделать теперь. Но с точки зрения Вика — не Соломона.
Грегори Соломон, старьевщик, восьмидесяти девяти лет, направляется к креслу. Все ближе. Расстояние между ними сокращается, скрюченные пальцы цепляются за высокую спинку, лицо старика уже умиротворено грядущим покоем. Но ноги запаздывают, они не могут остановиться так сразу, вдруг, и норовят вывернуться куда-то в сторону. Ясно, что с первой попытки Грегори Соломону кресло не взять. Его «заносит», голова страдальчески откидывается назад. Кажется, это конец.
Процедура усаживания разрастается в самостоятельный спектакль, жутковатый, с привкусом гиньоля. Однако «штурм» кресла оказывается лишь первым актом разворачивающегося представления. Второе действие посвящено портфелю.