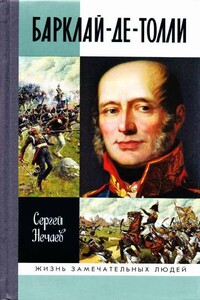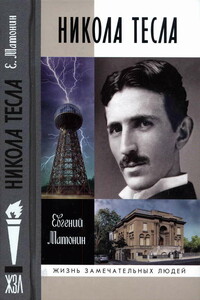Владислав Стржельчик | страница 57
В фильмах С. Бондарчука «Война и мир» и «Ватерлоо» возникает образ Наполеона, в первом случае созданный Стржельчиком, во втором — американцем Родом Стайгером. Выбор столь разных актеров на одну и ту же роль в разных фильмах был закономерен. У Л. Толстого Наполеон выступает прежде всего как носитель исторической воли, исторической агрессивности, в нем субъективное, личностное подавлено. Романная трактовка образа, естественно, определила и его экранную судьбу. В фильме «Ватерлоо» Наполеон интересовал Бондарчука уже в контексте более широком — как неповторимая индивидуальность. Разные творческие задачи соответственно требовали и разных исполнителей. Стайгеру удалось передать в Наполеоне обаяние гениальной личности. Он сумел объяснить и оправдать бонапартизм как преклонение перед жизнью, радостно, удачливо, артистично претворившейся в гениальном плебее, в сгустке грязи. Страдающий ожирением и одышкой, немолодой и некрасивый Наполеон — Стайгер нежился, закатывая маленькие глазки, в какой-то лохани, чуть ли не в кипятке, в клубах пара, усыпанный крупными каплями пота. И путь к умам миллионов он находил через свою ликующую плотскость, благодаря феноменальной жизнедеятельности и жизнеспособности, против которых ополчился целый мир. Этот неромантичный Наполеон воплощал собой истый романтизм в политике, замешанный на риске, волюнтаризме и безмерном обожествлении человека-делателя, человека — творца истории.
Выхоленный красавец, представляющий перед миром касту избранных, Наполеон Стржельчика радостей Наполеона Стайгера не знал. Он сгибался под бременем возложенной на себя миссии, замкнутый, с одинаковым, словно окаменевшим, выражением лица. Он не радовался победам, он их не замечал, как не замечал ни солнца, ни неба, ни людей,— в аскетизме своем он был обречен.
Почти все герои Стржельчика последних лет — немного мученики. В этом их отличительная русская черта. Русскому характеру в высшей степени свойственно изнурять себя мыслью или чувством долга, как намеренно изнурял себя Рахметов, когда спал на гвоздях. Страдальческий ореол оттеняет и Наполеона Стржельчика и его же Машкова, для которого «долгая» память, интеллигентская деликатность не только единственно возможная форма существования, но и мука. Драма обоих — в неумении жить раскованно и легко, в природном, кажется, или фатально преследующем их чувстве несвободы, чувстве «законтрактованности» историей, эпохой, традицией или совестью. Оба не могут жить непосредственно, органично. Оба себя непрерывно «мастерят».