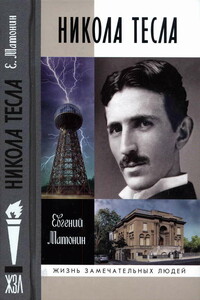Владислав Стржельчик | страница 55
В 1971 году Стржельчик выступил на телевидении в спектакле «Двадцать седьмой, неполный...». Спектакль, воссоздающий страницы биографии Гайдара, был рассчитан на детскую аудиторию, Стржельчик сыграл в нем небольшую роль, почти эпизод. Эпизод этот не прибавил ему популярности, не раскрыл новых граней таланта и вполне мог остаться незамеченным, если бы не перипетии спора, который возник на телеэкране между Гайдаром — Луспекаевым и директором школы Карташовым — Стржельчиком. Спор этот о смысле жизни лишь схематично набросан драматургом Ю. Принцевым, но сами актерские индивидуальности, удачно выбранные режиссером Г. Селяниным, углубили существо спора. Сама манера поведения актеров на экране заставила воспринимать героев Луспекаева и Стржельчика как идейных антиподов, а спор их — как конфликт двух миросозерцаний.
В чем истина? В умении слушать жизнь — иную в каждый следующий миг, радостно идти за жизнью, повинуясь ее зову? Или сохранять внутреннюю монолитность, стараясь оставаться в каждый следующий миг лишь равным самому себе?
Луспекаев в образе Гайдара вовсе без грима, словно он и есть Гайдар, смотрит прямо в объектив телекамеры, стремясь, кажется, преодолеть плоскость экрана и войти живым, трехмерным, сегодняшним с экрана прямо в жизнь. Гайдар — Луспекаев убеждает: человек прежде всего должен быть отзывчивым, чутким к тому, что происходит вокруг. Не замыкаться в себе, всецело проживая каждую секунду, отпущенную ему судьбой, ежеминутно оправдывая свое существование «и перед людьми, и перед зверьми». Нет затверженных идеалов, нет вчерашних авторитетов. Идеалы только тогда и идеалы, когда они не зазубренные формулы, а живая боль и страсть, когда они непрерывно подтверждаются и оправдываются жизнью.
Карташов — Стржельчик близоруко щурится за стеклами очков, все время вполоборота, словно не замечает «глазка» телекамеры, не берет ее в расчет. Он не ищет сообщников по ту сторону экрана, он призывает в свидетели великие идеалы гуманизма, человеческой культуры. Гайдар рассказывает его воспитанникам о грядущей войне, учит их держать военный строй и стрелять из пистолета, а Карташов запрещает им все это, даже «если завтра война». Он хочет открыть перед молодым поколением мир гуманистической культуры, мир творчества, искусства, познакомить их с памятниками человеческой истории, дабы они смогли ощутить себя духовными наследниками этого богатства. И все здесь, кажется, правильно, если бы только рассуждения Карташова — Стржельчика не были так удручающе схоластичны, так замкнуты в себе.