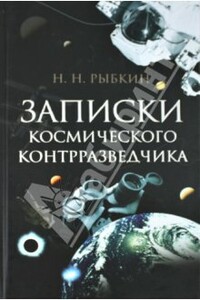Владислав Стржельчик | страница 51
Стржельчик играл в Кулыгине не чиновника, а семейного человека, преданного миру вещей, обыденных и ясных. Личная драма его героя заключалась в ностальгической приверженности укладу жизни, который безвозвратно уходил в небытие. Кулыгин — Стржельчик это знал, страдал, пытался сохранить иллюзию благополучия, но в глубине души не мог не ощущать тщетности своих усилий. От невозможности что-либо удержать или исправить страдал еще больше, заражая этим чувством и зрителей. Он заставлял сочувствовать себе, потому что с ним изживал себя особый тип интеллигентности, и это было грустно сознавать.
Даже и в финальных эпизодах спектакля Кулыгин Стржельчика не переставал быть нелепым, жалким, смешным. Однако сквозь уродливые напластования жизни пробивалось возвышенное, одухотворенное. Вставала культура, вставала вековая традиция вошедших в плоть и кровь порядочности, достоинства, благородства. В Кулыгине — Стржельчике эта традиция обретала сама себя под шутовской маской, как обретал себя Федя Протасов в цыганском вертепе, в пьянстве, в «безобразии». Здесь одинаково важен момент отказа от нормы, от «образа», который именно и позволяет осознать традицию не как категорию нравственную или социальную только, а как проявление непосредственное, почти физиологическое, известное под именем русской интеллигенции.
Блок некогда заметил: «Культуру убить нельзя; она есть лишь мыслимая линия, лишь звучащая — не осязаемая. Она — есть ритм. Кому угодно иметь уши и глаза, тот может услышать и увидеть»[34]. Стржельчик и осваивал через Чехова ритм русской культуры, дух русской культуры. Эту совестливость, развившуюся до гипертрофированных масштабов. Эту жажду чистоты человеческих отношений, чистоты не в смысле наивности или неосведомленности в теневых сторонах жизни, а в смысле открытости, откровенности, «нестыдности» отношений. Эту любовь, обретаемую не иначе, как в самоотречении, подвижничестве.
После Чехова потребность у Стржельчика в Достоевском или Толстом, в каком-то значительном образе русской классической литературы должна была быть, по-видимому, чрезвычайно велика. Но в возобновленном «Идиоте» (1966) он играл уже даже и не Ганю Иволгина, а генерала Епанчина, в фильме «Война и мир» (1966—1967) — Наполеона, в фильме «Гранатовый браслет» — товарища прокурора, «чопорного» и «высокомерного» (купринские определения) Николая Николаевича.
Ощущения, разбуженные Чеховым, реализовались в творчестве Стржельчика неожиданно — в спектакле по пьесе современного драматурга В. Розова «Традиционный сбор» (1967). Здесь опять-таки ему досталась роль, которая оказалась на периферии сюжета, как и Кулыгин. В пьесе герой Стржельчика Александр Машков фигурирует больше не сам по себе, а как муж ослепительной женщины и литературной знаменитости Агнии Шабиной. Характерно, что в спектакле, поставленном театром «Современник», этот персонаж почти и не был замечен критикой, а играл его Валентин Никулин — актер горьковский, актер чеховский, с пронзительной нервностью сегодняшнего интеллигента. Стржельчик же в «Традиционном сборе» не просто был замечен — сыграл, по общему мнению, одну из лучших своих ролей, хотя, кажется, приложил все усилия к тому, чтобы сыграть именно неприметность.