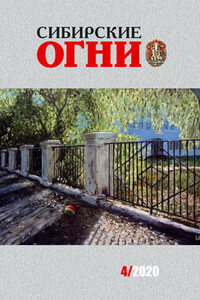Достоверность характера | страница 9
Необычайно возросший в последние годы интерес к гениальному творению Льва Толстого — эпопее «Война и мир» — вряд ли стоит объяснять только особым нашим почтением к историческому прошлому. Обращение к прошлому все-таки связано у нас с заботой о завтрашнем дне, поставленном волею исторических судеб в первопричинную зависимость от вопросов войны и мира. Но зачем бы нам обращаться к событиям полуторавековой давности, когда всего лишь несколько десятилетий отделяют нас от событий еще более грандиозных, чем те, что осмыслены автором «Войны и мира»? Но в том-то и дело, что нас соблазняют не события времен наполеоновских войн, а глубина их философско-художественного осмысления. Видимо, толстовский роман так привлекает до сих пор нас потому, что в нем исторический процесс, выраженный через развивающиеся характеры и запечатленный в них, открывает такую правду времени, которая позволяет увидеть и уразуметь как то, что предшествовало этому историческому времени и, по сути дела, его созидало, так и то, что за ним последовало, то есть то, чему оно само явилось причиной.
Если мы будем в толстовском Наполеоне видеть лишь фигуру антипатичного гениальному писателю человека, то мы никогда не поймем, почему Толстой написал свой великий роман об эпохе, отстоявшей от времени написания самого романа на целые полвека, и почему этот роман злободневен и по сей день. Не поняв всего этого, мы не сумеем также объективно и глубоко уяснить сущности многих явлений и событий, стоящих в непосредственной близости с нашей современностью.
По-моему, если писатель связывает все победы или равно все поражения с личностью одного человека, то при любом отношении к самой личности (даже самом отрицательном) он весьма близок к теории «толпы и героя», так как в каждом из этих случаев игнорируется роль народа. Ведь если не доминирующая роль народа, то остается одно — доминирующая роль личности, от воли которой зависят как все успехи, так и все неудачи.
Я не стану вновь возбуждать спор на тему: откуда лучше видна была правда времени — из солдатского окопа или с НП командующего. Минувшая война потому-то и называлась Отечественной, что виденье правды времени не мог обеспечить никакой «уровень»: ни наблюдательный пункт командующего, ни солдатский окоп сами по себе еще не давали такого виденья, ибо война прошла по судьбам народов, а не только через фортификационные сооружения различных профилей. Поэтому правду того сложного времени нужно искать прежде всего в народном характере, устойчивость которого вовсе не исключает ни его развития, ни его совершенствования.