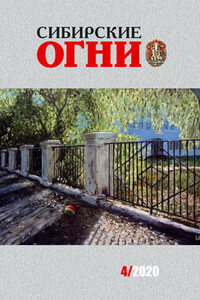Достоверность характера | страница 2
И вот наступали времена, когда человеку начинало казаться, будто он установил с таинственными силами прочную связь, обеспечивающую ему уверенное на земле существование, и то, вероятно, были времена совершенствования, оттачивания форм магического искусства, предвещавшие одновременно неминуемый кризис установившегося миросозерцании. В конце концов жизнь опровергала заблуждение, и человек снова погружался в спасительные для него сомнении, всегда чреватые новыми интенсивными поисками положительного идеала.
Мысль о загробной жизни, вырванная из исторического контекста, представляется нам и наивной, и нелепой, хотя в свое время она произвела целый переворот в человеческом мировосприятии. Идея бесконечности жизни наконец-то примирила человека с видимой смертью и впервые вдохнула в него чувство исторической уверенности.
Нас еще на школьной скамье отталкивает и пугает своей жестокостью древний обычай погребения вместе с усопшими их жен, рабов, лошадей, оружия, драгоценностей и различной домашней утвари. Но в этом обычае не было ничего субъективно жестокого, и вряд ли присутствие в нем объективной жестокости способствовало развитию не лучших инстинктов. Совершенствуя новый обычай, искусство постепенно удаляло из него элемент присущей ему объективной жестокости. (Мы уже говорили, что искусство всегда противостояло смерти, в этом, вероятно, и заключается его изначальный гуманизм.) Поскольку потусторонняя жизнь предполагалась в тех же земных формах, то человека (усопшего) и снаряжали в нее, как в далекое путешествие. И тут искусство должно было вновь обратиться к подобию и изображением рабов, женщин, животных заменить при погребении живую натуру. Нетрудно догадаться, что художники той поры совершенствовали свое мастерство в сторону сходства изображаемого с натурой. История не сохранила нам ни имен тех, кто, надо полагать, не без борьбы утвердил в сознании своих современников мысль о тождестве живого оригинала и его подобия, ни подробностей самой борьбы, но суть не в именах и подробностях, а в том, что новое великое заблуждение спасло множество человеческих жизней и открыло искусству пути для дальнейшего развития его гуманистического содержания и для совершенствования его форм.
Но и это искусство, разумеется, не преодолело законов своего собственного развития. Непререкаемость авторитета нового миросозерцания и нового искусства в конце концов породила ереси. С одной стороны — вечность изображаемого художником, а с другой — непрочность погребенного тела... Бальзамирование, снятие золотых масок. Та же потребность в увековечивании тела дала толчок к развитию жанра, которому мы обязаны появлением на местах захоронения скульптур-надгробий. Потом в силу разных причин этот важный жанр получал различные направления своего развития, забывалась истинная причина его возникновения, но никогда полностью не устранялась первоначальная идея увековечивания внешнего образа усопшего, хотя она трансформировалась под воздействием неодинаковых миросозерцание. Со временем скульптура стала привычным атрибутом городского пейзажа.