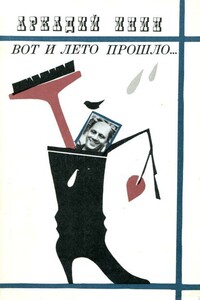В канун бабьего лета | страница 35
Льнули хуторяне к окнам и плетням. Отвыкшие за годы войны от свадеб и свадебных песен, они глядели с завистью на нарядных коней, на веселых гостей из станицы и радовались чужому счастью. Игнат иногда оглядывался назад, и приятное чувство гордости и легкого страха охватывало его: быть ему нынче с невестою на виду у всех гостей.
Деревянные почернелые ворота невестиного база были закрыты наглухо, гостей никто не встречал. В маленьких окнах приземистого флигеля под камышовой крышей дернулись занавески. Мелькнули головы и пропали.
— Вроде как тут мы были… Или ты, жених, с радости обмишулился? — весело спросил отец.
— Да нет… вроде, — холодея, выговорил Игнат. — Может, они… в саду…
— Ну, приехали? — прохрипел в задке дед и привстал, глядя на дощатые воротца.
— Что за чертовщина? Или тут нелюди живут? — Отец молодцевато выпрыгнул из фаэтона, расправил белую под ремнем рубаху, топнул сапогами, шагнул через перелаз. За ним — дед, мать, Игнат.
— Заезжай! — распорядился отец. Дружки жениха распахнули ветхие воротца.
Фаэтон вмиг облепила детвора. На задних подводах хмельной голос затянул свадебную:
Игнат увидел на дворе выжженную кулигу: подавно смолили кабана, в коридоре — горка тарелок, кастрюли, прикрытые рогожей, новые хомуты под самым потолком. Пахло свиными выжарками, кислым квасом, луком. Игнат шагнул через порог, поискал глазами Любаву. Над высокой кроватью с цветастыми подушками, на стене, на гвоздике поблескивала подковка-игрушка, стопка книжек на столике. Напоминания кольнули недобрым предчувствием: и по сей день бережет подковку… Оглядел хмурых людей, сидевших недвижно на скамье, и похолодело в груди: случилось что-то. Отец невесты Колосков сидел за столом, накрытым скатертью, сутулый, обросший и почерневший в лице. Увидев гостей, он, будто к нему пришли с обыском, подался на скамье назад, потом приподнялся, упал грудью на стол, раскинув руки.
— Сват! Сваточек, — захрипел он. — Руби голову! Руби! Виноват! — Серые пальцы его дрожали на белой скатерти.
— Что-о, что такое?! — Назарьев-старший остановился перед столом, отшатнулся слегка, сжал кулаки, предчувствуя недоброе. — Говори.
Шорник неуклюже вывернул голову, как птица из-под крыла, комкая скатерть, прошептал белыми дрожащими губами:
— Ушла… Сбегла, подлая. Нынче… на заре. С пришлым, смутьяном. — И Колосков, обессилевший, опять опустил голову, стуча подбородком по крышке стола.