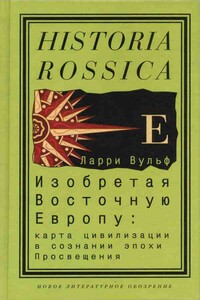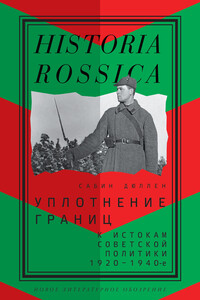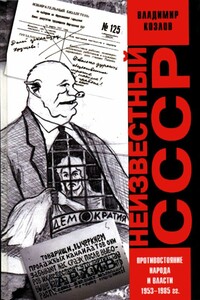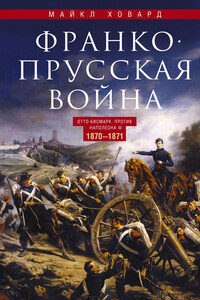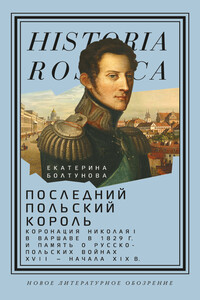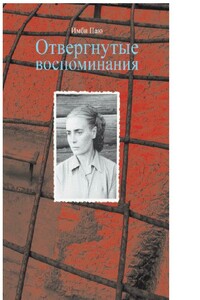«Маленький СССР» и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии 1945–1949 | страница 77
Что касается бдительности, то она, по всей видимости, представлялась сваговцам неким привычным заклинанием, звучащим второй десяток лет. Его нужно было повторять на каждом партийном собрании, совещании, занятии и… ничего не предпринимать, разве что доносить из карьерных или личных соображений о действительных или придуманных нарушениях. Корпоративная солидарность отступала под мощным идеологическим и вышестоящим давлением, но даже в таком урезанном виде именно она помогала пережить очередной психоз большевистской бдительности, вновь накрывавший сталинское общество. Колоссальный потенциал сталинского запретительства на деле был ограничен повседневным прагматизмом обычного советского бюрократа. Система могла работать и добиваться поставленных целей, часто на практике искаженных и искажаемых, не потому, что она постоянно приближалась к сталинскому бюрократическую идеалу, а потому, что этот идеал так и не был достигнут, а система была защищена от хаоса многочисленными целесообразными нарушениями. Часто именно они, а не строгие предписания и правила, позволяли сохранить работоспособность государственного механизма, загонявшего себя в тупики экзальтированной бдительности и гипертрофированной секретности.
В целом эпопея поддержания бдительности и ужесточения секретности в СВАГ показала, что угрозы и наказания блокировали оперативную выработку и исполнение решений. Все эти действия сковывали работников, а самых ответственных и добросовестных (именно их, может быть, даже в первую очередь) подталкивали все к тем же отступлениям от правил, способным хоть как-то двигать вперед коснеющий в собственных запретах поздний сталинизм. Бесспорно, основная масса бюрократов, придавленная секретностью и страхом, думала о последствиях и уходила от импровизаций, за которые наказывали. Но чем больше бюрократическая система работала на страхе и ограничениях, в нашем случае в секретной сфере, тем больше она деградировала. Чем больше она закрывалась от мира, чем больше билась за сохранение гостайны, тем сильнее тормозила. Начинались функциональные сбои, возникали управленческие дыры. Их приходилось затыкать нелегитимной низовой инициативой. В этом смысле целесообразные нарушения оказывались, как это ни парадоксально, сродни другому компенсирующему механизму сталинской системы – энтузиазму. Оба эти явления из той же самой советской управленческой обоймы. Поздний сталинизм держался не на достигнутом идеале тотальности, а на позитивных отклонениях от него – позитивных для режима, а не для придавленного этим режимом общества. Сталинский человек «поклонялся данности» (выражение И. Бродского), но эта данность формировалась при его непосредственном участии. И даже в критически важных для власти сегментах бытия, а секретность относилась именно к таким сферам, действительность могла заметно отклоняться от предписанных сталинской верхушкой норм или их газетных интерпретаций.