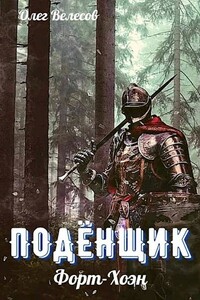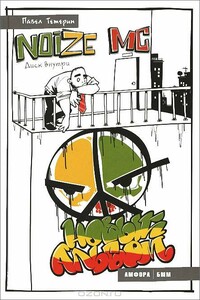Гражданская рапсодия. Сломанные души | страница 81
— Кто ещё упомянет поганый ваш комитет, расстреляю как дезертира и паникёра! Ясно?
— Куда уж не ясно.
Фельдфебель прикусил губу и усмехнулся криво в усы. Угроз штабс-капитана он не боялся. Или отвык бояться, или знал что-то такое, что наверняка не даст его в обиду.
— Вот вам плоды февральской революции, — хмыкнул Аверин. — Подождите, скоро и октябрьская что-то покажет.
В сенях вдруг хлопнул выстрел. Звоном отозвались стёкла, солдатская толпа колыхнулась, подалась к окнам. Фельдфебель сжал кулаки, усмешка стала шире. По казарме волной прокатился злой гул, и Некрашевич заорал:
— Стоять! Штыки наперевес! Кто дёрнется, колоть всех к чертям!
Угроза подействовала. Солдаты прянули назад, и даже фельдфебель, кажется, начал понимать, что защита, которая последние месяцы отводила от него любую беду, на этот раз не сработает.
— Толкачёв, Аверин, проверить! — крикнул Некрашевич.
Из сеней доносился шорох. Толкачёв прижался к перегородке щекой, прислушался. Шорох походил на мышиную возню, а может это стоял кто-то сейчас по другую сторону, сжимал в взопревших руках винтовку и ждал, и так же слушал, и дышал шумно. Что с Кашиным? Судорожно дёрнулся глаз, из-под фуражки на переносицу скатилась капелька пота. Рядом встал Аверин. Дуло карабина чуть опущено, палец на спусковом крючке. Толкачёв глубоко втянул в себя воздух через нос и шагнул в сени.
У входной двери корчился унтер. Он сучил каблуками по полу, оставляя на скоблёных половицах чёрные полосы, и хрипел. Кашин с трёхлинейкой в руках стоял у печи. На обескровленном лице застыл ужас, правая рука механически передёрнула затвор. Из патронника выскочила гильза, ударилась о печь и медленно покатилась к стене.
Аверин подошёл к унтеру, ткнул носком сапога. Тот харкнул кровью и забился в конвульсиях.
— Не выживет, — Аверин повернулся к Толкачёву. — Если сразу в госпиталь, то может быть. А так… Не выживет.
Словно вняв его словам, унтер перестал дёргаться и затих, хотя в отрезвевших глазах ещё что-то теплилось. Аверин снял висевшую на стене шинель, небрежно бросил ему на голову.
— Владимир Алексеевич… — позвал Кашин.
— Да, Серёжа?
— Владимир Алексеевич, там двое… — дрожащим пальцем он указал в сторону двери. — Они как вошли, он побежал. Я… выстрелил?
Последняя фраза прозвучала как вопрос, словно Кашин сам себя пытался убедить в том, что сделал, и никак не мог или не хотел в это поверить. Он посмотрел на Толкачёва, потом на Аверина, и вдруг увидел лежавшее под шинелью тело. Унтер ещё дышал. Грудь его вздымалась высоко и часто, и Кашин впился в неё глазами. Толкачёв взял прапорщика под руку, вывел на улицу.