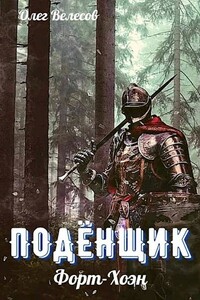Гражданская рапсодия. Сломанные души | страница 39
По Биржевому спуску проехали две кухонных упряжки и встали в очередь к броневику. Металлические трубы печей покрылись ледяным налётом, сидевшие на задках повара дремали, укутавшись в овчинные тулупы. По всем фронтовым приметам выходило, что раньше полудня кормить не будут.
— Это правда, меня не было в Петербурге, — кивнул Донсков, — но я видел, как расстреливали людей в Киеве. И, поверьте, безо всяких на то оснований. Просто выводили на улицу, ставили к стене и именем революционного трибунала… Вы зря считаете, Мстислав Владимирович, что я ничего не вижу и не понимаю. Эта ненужная никому революция, беззаконие, мусор на улицах, неприятны мне так же, как и вам. И я бы просил вас впредь выбирать выражения в мой адрес. Определения вроде «глупец» и прочее среди офицеров русской армии неприемлемы!
Донсков поднял воротник шинели и, прикрывая руками лицо от ветра, пошёл к интендантским телегам. Кобель перестал вдруг лаять и завыл, будто по покойнику. Сторож снова цыкнул на него, на этот раз пёс послушался, замолчал и полез в будку.
— Слышали? Ему это неприятно, — Мезерницкий обернулся к Толкачёву. — Интеллигент. К чёрту таких. Раздражает.
Толкачёв не ответил. Ему было всё равно, что думает Мезерницкий о Донскове и что думает Донсков о Мезерницком. Вмешиваться в их отношения и вставать на чью-либо сторону он не собирался. Он попробовал представить, где сейчас Катя в этот холодный, ночной, неурочный час. По всей видимости, спит. В тёплой комнате на Барочной. И слава богу. Некрашевич сказал, что полковник Хованский, назначенный руководить сводным отрядом, принципиально запретил включать женщин в состав роты даже в качестве сестёр милосердия. Шуму из-за этого запрета вышло много. В организацию успели записаться более тридцати женщин. Они потребовали объяснений у самого Алексеева, на что Михаил Васильевич, приехавший на Барочную лично проводить добровольцев, только развёл руками. Не обошлось без слёз, причём суть этих слёз была где-то далеко за гранью понимания любого нормального человека, ибо плакать по причине того, что тебя не отправляют на смерть в бой, было попросту смешно.
Некрашевич не сдерживал иронии, когда рассказывал об этом, а Толкачёв подумал: как бы отреагировал сам Некрашевич, если бы в бой не взяли его?
Но что бы там ни было, Хованский прав в своём решении. Не женское дело ходить в атаку. Толкачёв видел этих доброволиц, когда шёл по коридору в кабинет полковника Звягина. Они стояли у дверей столовой комнаты — стайка бесноватых пичужек. Хрупкие, красивые, в новеньких гимнастёрках. Молодые. Старшей вряд ли более двадцати. Куда они спешат, куда рвутся? Сидели бы дома. Каждая капелька пролитой ими крови никогда и ни чем не оправдается.