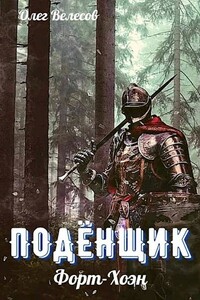Гражданская рапсодия. Сломанные души | страница 35
— Оставьте себе, пригодятся. А если этот шарлатан начнёт требовать с вас ещё, так гоните его в шею.
— Чего ж, барин, так сразу и шарлатаном? — искренно обиделся извозчик. — Барышню довезём как нужно и со всем ею поможем.
— Ладно, милый, не рассусоливай, езжай.
Извозчик щёлкнул вожжами. Пегая кобылка, ленивая, как осенняя муха, мотнула гривой и неторопливо побрела по мостовой. От соседнего дома грязной тенью метнулась к пролётке собачонка, залаяла с подвывом, высоко задирая узкую морду, ей принялась вторить другая псина откуда-то из глубины двора. Дворник, давеча гонявший галок, замахнулся теперь на собаку.
Катя откинулась на спинку, сжала пальцы в кулачки. Чемодан в ногах покачивался и бился углом о край сиденья. Этот звук, мерный и едва различимый, напоминал биение колёс о рельсы, и Катя вдруг почувствовала, как на плечи наваливается одиночество. В том поезде, в том маленьком тесном купе третьего класса, где даже окна не открывались, потому что были заколочены, они успели сдружиться — Будилович, Маша, Осин и этот нелюдимый штабс-капитан в плаще с чужого плеча. Как же быстро они разошлись по сторонам. Вот уже и Алексей Гаврилович остаётся в прошлом, а его, пожалуй, будет не хватать больше остальных. Он напоминал отца. Нет, он совсем не был на него похож — отец настоящий великан с длинными закрученными усами и широкими жестами — но в голосе, в словах и, самое главное, в поступках, он так сильно на него походил. Если бы отец был жив, он ни за чтобы не позволил ей уехать так далеко, или они уехали вместе, и Лида, провожая их и вытирая украдкой слёзы, дала бы им в дорогу больше пирожков. А мама… Мама. Она не стала бы их отговаривать.
Какие всё-таки вкусные были те пирожки. Они съели их с Машей ещё до того, как приехали на вокзал. Надо было оставить два или три, угостить Липатникова. Он и Будилович подсели к ним в купе сразу же, с Черешковым и Осиным познакомились в Москве. А когда в вагон вошёл Толкачёв, Катя почувствовала, как к щекам приливает кровь. Нечто подобное случалось с ней лишь однажды, когда в их дом приехала тётка с сыном, юнкером Николаевского кавалерийского училища. Тётка называла его на французский манер: Пьер — и произносила гнусаво, в нос. Это имя никак ему не шло, зато чёрный мундир с красным лацканом и белые перчатки произвели на Катю огромное впечатление. Она убежала на кухню, спряталась за Лиду и не смела показываться в гостиной до ухода гостей. Мама отчитала её потом, отец посмеялся, а Катя записала в дневнике правду о своём первом и единственном в то время чувстве.