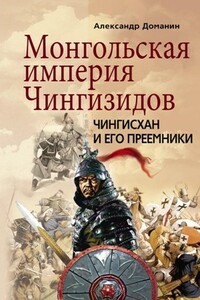Крестовые походы. Под сенью креста | страница 68
Надо сказать, что вначале крестоносцам повезло. Дело в том, что в Никее в это время не было крупных сельджукских воинских сил, за исключением постоянного гарнизона. Султан Килидж-Арслан, сын Сулеймана, тот самый, что в 1096 году разгромил крестьянское ополчение, видимо, поверил, что с этой победой неприятности, идущие с Запада, кончились, и вместе с войском ушел на восток, воевать с неподвластными ему сельджукскими эмирами. Так разобщенность мусульманского мира уже в начале похода сыграла на руку крестоносцам. В итоге отряды Готфрида, Боэмунда и северофранцузских князей смогли без помех занять подступы к северной и восточной стенам крепости. На южном направлении должен был действовать Раймунд Тулузский со своими людьми, но он в это время был сильно занят своей склокой с византийским императором. Отсутствие единого командования и недоверие вождей друг к другу (а чем еще можно объяснить то, что крестоносцы не окружили всю крепость сразу, как не позицией Раймунда, не доверявшего друзьям-соперникам) могли дорого обойтись крестоносцам. В середине мая стало известно, что Килидж-Арслан с большой армией спешит на выручку своей столице, и оголенность южного участка стала представлять серьезную угрозу.
Лучше всех это понимал Боэмунд Тарентский – единственный из вождей крестоносцев, сведущий в искусстве осады городов. Понятно поэтому то неистовство, с которым он накинулся на упрямого тулузского графа. И эта ярость Боэмунда, вкупе с подозрительностью Раймунда, все же в последний момент помогли «Христовым рыцарям». 17 мая конница Килидж-Арслана, видимо, знавшая от своих разведчиков об отсутствии христианских войск у южной стены города, стала прорываться в Никею именно с этой стороны. Но как раз утром этого дня отряды Раймунда уже заняли свои позиции, и атака сельджуков (тем более, не ожидавших здесь сопротивления) была сорвана. В последующие дни турки потерпели несколько поражений и на других направлениях и, потеряв убитыми и ранеными несколько тысяч человек, вынуждены были отказаться от попыток деблокировать Никею и ограничиться мелкими налетами.
Однако, судьба Никеи далеко еще не была решена. Стены ее были высоки и крепки, да и у крестоносцев почти не было необходимой осадной техники – ведь в Западной Европе столь мощных крепостей в ту эпоху просто не существовало. По сути, единственным способом заставить Никею сдаться была бы только полная блокада твердыни; проще говоря, взять ее можно было только измором. Но с этим дело обстояло из рук вон плохо. Камнем преткновения для «воинов Христа» стала западная часть города, примыкавшая к озеру. Окружить все огромное озеро войсками крестоносцы не могли, и защитники крепости по воде получали все необходимые припасы. Осада грозила затянуться на неопределенный срок, а тем временем Килидж-Арслан начал собирать большое войско в долинах Анатолии. Затягивание осады грозило неудачей всему походу. Никею нужно было взять до подхода главных сил сельджуков. И здесь на помощь крестоносцам пришла Византия. Алексей Комнин лучше всех понимал, что неудача под Никеей сломает все его далеко идущие планы, а занятая им вначале выжидательная позиция становится опасной и для самой Империи. И тогда по приказу императора к озеру было перенесено на руках и спущено на воду несколько десятков небольших военных кораблей. Так Никея оказалась блокированной и с моря, и с суши.