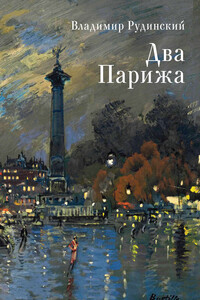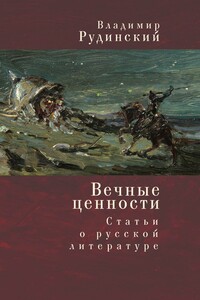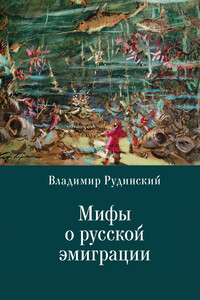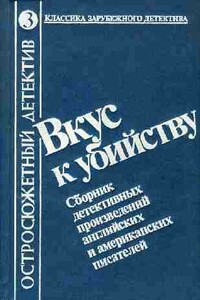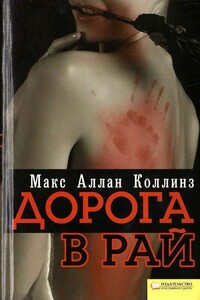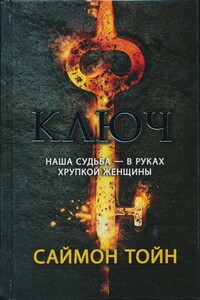Страшный Париж | страница 3
Впрочем, если вглядеться поглубже в родословную этих постоянных героев книги, наделенных, как и ее автор, острым даром аналитической дедукции, недюжинной эрудицией и столь же ненасытимой потребностью разгадывать самые неразрешимые, казалось бы, загадки, распутывать безнадежно запутанные клубки обстоятельств, то окажется, что Владимиру Рудинскому — литератору, герою-повествователю и даже активному участнику некоторых прелюбопытных «казусов» из области естественного и сверхъестественного (да, да; в ряде новелл «Страшного Парижа» он, «не таясь», выступает под собственным именем — и только нам с вами, дорогой читатель, ведомо, что это — литературный псевдоним нашего, не вовсе чуждого безобидного лукавства, современника) — несравненно ближе, нежели Конан Дойл и даже менее отстоящий от нас во времени «создатель» комиссара Мегрэ Жорж Сименон, художники принципиально иной образно-мировоззренческой ориентации. Это — творцы романтической и постромантической готики: Эдгар По, Проспер Мериме, Вилье де Лиль-Адан, Шеридан Ле Фаню, Брэм Стокер, Хауэрд Филипс Лавкрафт…
Ряд можно продолжить (он явно будет неполон без позднего Ги де Мопассана, а из русских — мастера изысканных, с налетом метафизической мистики, историй И.С.Тургенева). Дело, однако, не в именах, не в источниках художественных влияний, определивших писательскую манеру Владимира Рудинского: «литературная» лишь в той мере, в какой это обусловлено авторским замыслом, она при всей своей «итровой», рассчитанной прежде всего на образованного, знающего цену писательскому слову читателя, природе совершенно самостоятельна и в чем-то неотразимо привлекательна.
В чем секрет этой привлекательности? В языке? В фабульной изобретательности? В «самоигральности» романного материала — всегда эффектного, экзотического, подчас пугающе инфернального? Или в том, что лежит по ту сторону сюжета, — своего рода жизненной установке автора?
В первую очередь в глаза бросается (мне, по крайней мере), конечно, язык романа: лаконичный, безупречно выверенный, отмеченный благородной сдержанностью (в котором, замечу, сам автор, судя по его письмам, не склонен усматривать ничего экстраординарного; но нам ли, москвичам и петербуржцам завершающегося десятилетия XX века, нам ли, обитающим в повседневной атмосфере какого-то варварского псевдокосмополитического арго, не оценить по достоинству всю его аромат-ность, его беспримесную чистоту, ненарушенность его экологии? Так радуешься свежему глотку родниковой — не из водопровода — воды). И все же язык — сколь угодно значимая, но оболочка чего-то другого, более важного.