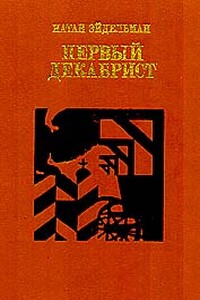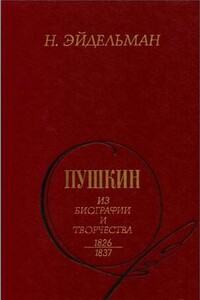Из потаенной истории России XVIII–XIX веков | страница 25
Построена она, если помнит читатель, в виде «сочиненных» автором записок И. И. Пущина — композиционный прием, всецело «подсказанный» мемуарно-эпистолярной культурой эпохи и мемуарной практикой самого Пущина. Свободно льющийся автобиографический рассказ, его речевой поток, все его ситуации, эпизоды, характеры, сюжетные линии до мельчайших деталей пронизаны подлинным историческим материалом. Это тот случай, когда, по словам самого же Эйдельмана, «документ… стал не истоком романа, а его тканью»>[36]. Вымысел здесь особого рода, он документально детерминирован, документ как бы регулирует и дисциплинирует авторское воображение, и оно настолько исторически правдоподобно, что тяготеет к вероятностному знанию, сродни научной гипотезе.
Рассуждая о соотношении документа и вымысла в художественно-историческом творчестве Тынянова, Эйдельман писал: «Тынянов — ученый мирового уровня. И, пожалуй, писатель такого же значения. Он обладал такими познаниями, что мог позволить себе создание достаточно достоверной историко-психологической модели облика героев, „заполняя“ пробелы между документами цементом творческих домыслов. Конструкции на этом фундаменте оказывались чрезвычайно прочными. И что знаменательно — последующие научные находки нередко подтверждали его художнические гипотезы»>[37]. Эта лаконически точная характеристика Эйдельмана относилась прежде всего к тыняновскому роману «Кюхля», но она с известными коррективами, если отвлечься от высоких эпитетов, по самой сути творческого метода применима, мне думается, и к его собственной повести «Большой Жанно».
Что же говорить об остальных его сочинениях, где «чистый» вымысел как принцип эстетически организованного повествования вообще не присутствует!
Художественный эффект достигался, таким образом, путем претворения самих реалий исторической действительности, «добываемых» в ходе ее параллельного или опережающего исследования, но каким именно образом ему удавалось это слияние научного и образного, — тоже своего рода таинство, формула которого пока не разгадана.
Поэтому так трудно разобраться и в жанровой специфике сочинений Эйдельмана. Вряд ли оправданно считать, что у него историческая наука «перерастала в беллетристику»>[38],— с беллетристикой в привычном понимании этого термина его сочинения не имеют ничего общего, поскольку всегда остаются на почве научных изысканий. Их жанр более точному определению, чем «историческая проза Эйдельмана», наверное, вообще не поддается