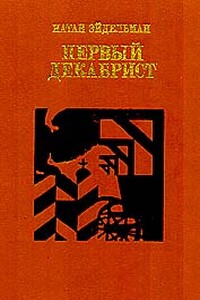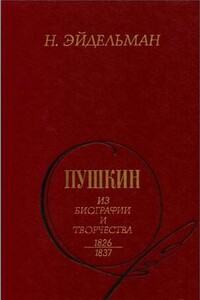Из потаенной истории России XVIII–XIX веков | страница 24
Вообще совмещение научного и художественного начал в одном авторе, когда он продуцирует как ученый-исследователь и выпускает литературно-беллетристические произведения, встречается довольно редко. И уж совсем редки такие прецеденты, когда оба эти начала совмещены в рамках одного произведения. Даже у Ю. Тынянова, как известно, историко-литературная деятельность реализовывалась в строгих по форме научных статьях и книгах, а художественная — в параллельно писавшихся о той же эпохе исторических повестях и романах, т. е. то и другое являлось как принципиально различные по словесному воплощению ипостаси творческого бытия.
У Эйдельмана же его сочинения в большей своей части (каждое в своих рамках) образуют некий органический сплав научного и художественного — и не только в биографических повествованиях, но и в таких внешне «ученых» работах, как три книги о Пушкине, «Герцен против самодержавия», «Грань веков». Ибо для него сама историческая действительность была наполнена эстетическим содержанием и воспринималась эмоционально. Выхваченный из событийного потока исторический документ получал в его повествовании выразительную силу типического обобщения, а зорко подмеченная единичная подробность быта, характера, поступков, речи людей прошлых эпох, слишком мелкая доля «обычного» историка и вовсе не обязательная для писателя-беллетриста, который сам может легко ее «сконструировать», под его пером обретала энергию и пластику художественного образа. Естественно, все это переплавлялось мощной мыслью и воображением, но оно — глубоко своеобразно. Эйдельману, как уже отмечалось, был чужд вымысел в его, так сказать, «чистом» виде — как свободный полет фантазии художника, когда он, отталкиваясь от определенной суммы исторических знаний об эпохе, вольно домысливает, «творит» ее образ.
Единственное произведение Эйдельмана, написанное в этой, казалось бы, манере «вымышленного повествования» — повесть «Большой Жанно», — лишь подтверждает сказанное.
По выходе в свет вокруг повести развернулась острая полемика. Ее участники, к сожалению, не дали себе труда вникнуть в авторский замысел произведения и судили его как научно-историческое, а не художественное повествование, игнорируя, по сути дела, опыт отечественной и европейской исторической прозы двух последних столетий. И это тем досаднее, что повесть «Большой Жанно», так и не получившая, на мой взгляд, достодолжной оценки, обозначила новые пути развития художественно-биографического жанра. Наверное, это и одна из самых «тыняновских» книг Эйдельмана.