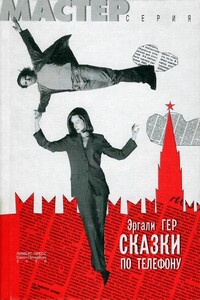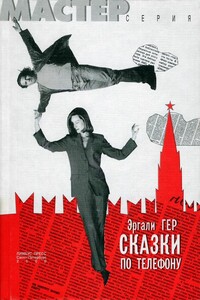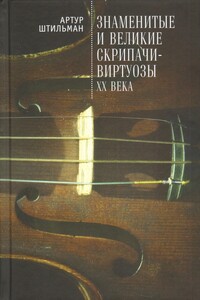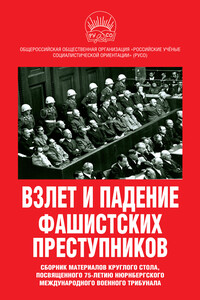Белорусское зеркало | страница 15
Говорят, еще в прошлом веке дома стояли у самой воды, а в позапрошлом работали водяные мельницы. От всей этой архаики остался один деревянный домик — тот самый, в котором тусовался первый выводок архитекторов будущего. Музей первого съезда РСДРП исправно работает до сих пор, хотя никто из минчан не смог обрисовать его изнутри. Ближе всех подобрался Леша Андреев — ему доводилось пить пиво на лавочке в палисаднике. Лично я пару раз отправлялся на экскурсию, однако с пути сбивался. С одной стороны подходишь к музею — там пиво и шашлыки; с другой — коньяк и кофе, пожалуйста. Так ни разу и не дошел. Вот чего не отнимешь у тогдашних архитекторов будущего, так это умения конспирироваться.
Прошлое Минска — это речка Немига, воспетая в “Слове о полку Игореве” и давно упрятанная под землю, фундамент церкви Святого Духа, прикрытый аккуратным газоном, да вот этот неуловимый музей конспирации, задающий вескую духовную доминанту здешнему бытию. К такому прошлому без медитации не прильнешь, недаром местные краеведы похожи на наперсточников и лозоходцев одновременно. История прячется в один наперсток, а предъявляется из другого. Прошлое конспирируется, как тот костел, обложенный по фасаду кирпичом и превращенный в обыкновенное здание сталинской постройки. Придет срок — и его посредством хитрых манипуляций извлекут из небытия. А то, что вы приняли за “исторические” кварталы, построено в позапрошлом году.
В первом костеле, который я посетил, танцевали и пели евангелисты. Во втором шла православная служба. В третьем оказался музей. В четвертый я не пошел: не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался…
Читаю во вчерашней газете: “На участке проспекта Машерова (бывшая улица Иерусалимская) от проспекта Победителей (бывший проспект Машерова) до улицы Даумана временно перекрыто движение…”. Вот такая постоянная перетасовка: передергивают практически в открытую, не стесняясь. “Торжественное собрание, посвященное 60-летию ликвидации Минского гетто…” — еще одна типичная оговорка наперсточников.
Для одних Коллекторная улица звучит благозвучнее, чем Еврейская, а какая-нибудь Захарова теплее, чем Провиантская. Для других годовщина Чернобыля становится поводом для политических балаганов, а Оршанская битва — символом национального возрождения (разумеется, это дело вкуса, кем быть переваренным, Москвой или Польшей — однако подобные предпочтения с общепринятыми представлениями о национальном достоинстве стыкуются слабовато; я уж не говорю о том, что понятий нации и национальности во времена Оршанской битвы не существовало). Истерзанная наперсточниками, белорусская история корчится на трех крестах сразу. В отношении к ней нет бескорыстной любви, нет академической беспристрастности, нет благоговения; ее затаскали по судам главным свидетелем обвинения, предварительно измордовав в кабинетах историков. Прошлое кромсают во имя будущего, а в результате имеют то, что имеют: будущее прошедшего времени.