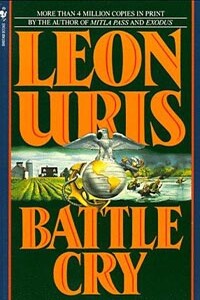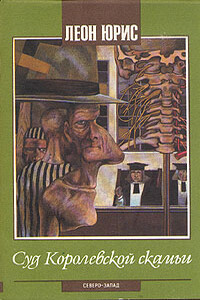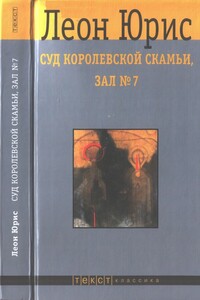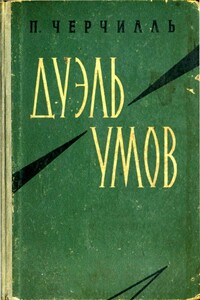Милая, 18 | страница 39
— Понимаю, — грустно сказала она, осознав смысл его слов.
— Пропади все пропадом.
У Андрея был такой удрученный вид, что она забыла о себе.
— Чем тебя так расстроил сегодня Бронский?
— Сволочь он, — Андрей, глубоко вздохнув, отвернулся к окну и уставился в темноту. — Он назвал меня лжесионистом, и он прав.
— Как ты можешь так говорить?!
— Прав, прав, он прав, — Андрей старался собраться с мыслями и смотрел на Габриэлу; она была далеко и не в фокусе. — Ты никогда не бывала на Ставках, где живут бедные евреи. А у меня перед глазами кучи мусора и в ушах — скрип тележек. Вонь и унижения заставили Бронского бежать оттуда. Разве можно его за это осуждать?
Габриэла с ужасом слушала его пьяные излияния. Сколько она знала Андрея, он ни разу ни словом не обмолвился о своем детстве.
— Как и все евреи, мы вынуждены были жить обособленно, и нас вечно громили те самые студенты, которыми сейчас руководит Пауль. Мой отец — ты видела его портрет?
— Да.
— Отец — один из тех бородатых религиозных евреев, которых никто не понимает, он торговал курами. Он никогда не злился, даже когда ему в окна бросали камни, и только повторял: ”Зло само себя разрушит”. Ты не знаешь Красинский сад, приличные польские девушки туда не ходят. Туда отправляются по субботам бедняки — на деревья посмотреть, крутые яйца с луком поесть, посудачить, пока дети плещутся в пруду. Отец посылал меня относить кур в ”Бристоль” и ”Европейскую”, и мне нужно было проходить через этот сад. Там нас, маленьких еврейских мальчиков, подстерегали банды гойских[18] мальчишек, и всякий раз, когда они били меня и отнимали кур, нам потом всю неделю приходилось сидеть на одной картошке, и я вечно спрашивал: >”Папа, когда же уже зло себя разрушит?” А он твердил: ”Беги от гоев, беги от гоев” — вот и весь ответ.
Однажды, когда я нес кур, со мной был приятель по хедеру. Хедер — это у нас как приходская школа. Даже не помню, как звали того приятеля, но удивительно, что он у меня стоит перед глазами, будто это было вчера. Худенькое лицо, и сам тощий, вдвое меньше меня. Гои напали на нас как раз напротив их собора. Я хотел бежать, а этот заморыш, как же его звали... нет, не помню, — удержал меня и заставил положить кур на землю позади нас.
Странно было не бежать. Когда первый подошел ко мне, я его ударил. На нашей улице я мог одолеть всех ребят, но стукнуть гоя мне и в голову не приходило. А этого я стукнул так, что он упал. Он тут же поднялся с расквашенным носом и совсем озверел от злости. Я снова стукнул его, на этот раз так, что он остался лежать. Я посмотрел на остальных, и они начали пятиться назад. Я — на них, они — бежать, я — за ними. Догнал одного и тоже побил. Я, Андрей Андровский со Ставок, побил двух гоев! — Тут его воодушевление, навеянное воспоминаниями, улеглось, и он снова помрачнел. — Вот почему я — дутый сионист, Габи. Я ненавижу эту чертову сионистскую ферму, не хочу всю жизнь проводить в задних комнатушках, и Бронский это знает. Я не поеду в Палестину, не буду строить поселения на болотах...