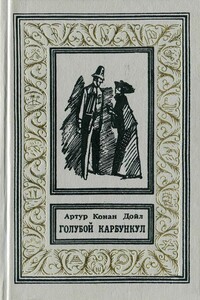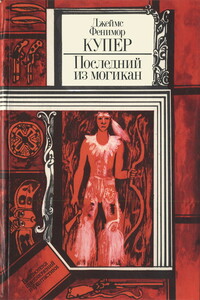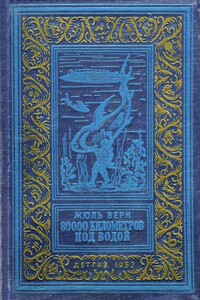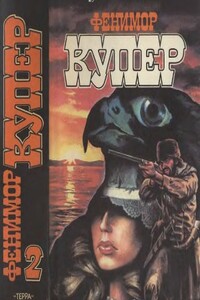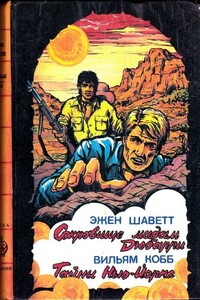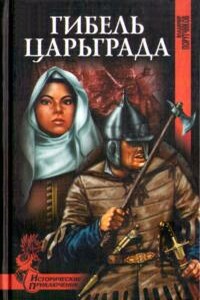Последний из Могикан | страница 11
— Не понимаю, почему вы называете мой голос громовым басом? — произнес Хейворд, слегка обиженный ее словами. — Я знаю только одно, а именно: что вашей безопасностью и спокойствием вашей сестры я дорожу несравненно больше, нежели всей музыкой Генделя![4]
Молодой офицер замолчал и посмотрел в сторону чащи, потом искоса и подозрительно глянул на Магуа, который шел попрежнему спокойно и невозмутимо. Увидав это, молодой человек улыбнулся, смеясь над собственными тревогами: разве не принял он только что блики света на каких-то блестящих лесных ягодах за горящие зрачки притаившегося в листве индейца! Теперь майор ехал спокойно, продолжая разговор, прерванный мелькнувшими в его уме опасениями.
Но Хейворд сделал великую ошибку, позволив своей юной гордости заглушить голос осторожности.
Едва спутники миновали чащу густых кустов и деревьев, ветви осторожно и бесшумно раздвинулись, и из них выглянуло свирепое лицо, украшенное грозной боевой раскраской.
Злобное торжество осветило темные черты жителя лесов, провожавшего взглядом маленький беззаботный отряд.
Легкие и грациозные всадницы то исчезали, то появлялись среди ветвей; за ними двигался майор на своей превосходной лошади, а позади всех — нескладный учитель пения. Наконец и его фигура скрылась среди темных стволов глухого леса.
Глава III
Предоставим Хейворду и его спутникам углубляться в дремучий лес и перенесем место действия нашего рассказа на несколько миль к западу.
В этот день два человека сидели на берегу небольшого, но очень быстрого потока, протекавшего на расстоянии одного дня пути от лагеря Вэбба. По-видимому, они ждали кого-то или чего-то. Могучая стена леса доходила до самого берега речки. Ветви густых деревьев свешивались к воде, бросая на нее темную тень. Сила лучей солнца начала ослабевать, дневной зной спал, и прохладные испарения ручьев и ключей легкой дымкой висели в воздухе. Нерушимая тишина, царившая в этом лесном уголке, прерывалась по временам ленивым постукиванием дятла, резким криком пестрой сойки или донесенным ветром глухим однообразным гулом отдаленного водопада.
Но эти слабые обрывки звуков были хорошо знакомы жителям лесов и не отвлекали их внимания от беседы. Красный цвет кожи одного из собеседников и его одежда обличали в нем воина-индейца. Загорелое лицо другого, одетого тоже в очень простое и грубое платье, было гораздо светлее; он казался несомненным потомком европейских переселенцев.
Краснокожий сидел на краю мшистого бревна и выразительными, спокойными, но красноречивыми движениями рук подчеркивал свои слова. Его почти обнаженное тело служило ужасной эмблемой смерти: оно было расписано черной и белой красками, которые придавали человеку вид скелета. На бритой голове индейца красовалась одна только прядь волос. Орлиное перо, воткнутое в волосы, опускалось на левое плечо дикаря; из-за пояса виднелись томагавк и скальпировальный нож английского изделия. Через обнаженное мускулистое колено он перебросил короткое солдатское ружье, одно из тех, какими англичане вооружали своих краснокожих союзников. Все в этом воине — его широкая грудь, прекрасное телосложение и горделивая осанка — доказывало, что он достиг полного расцвета жизни, но еще не начал приближаться к старости.